
Аннотация
Человек
привык считать себя венцом творения: свои сильные стороны – нормой, а слабости
– отклонением. Подход автора принципиально другой: мы изначально несовершенны;
наш мозг, как и тело, в ходе эволюции формировался достаточно случайно, из
«подручных материалов» природы и являет собой так называемый клудж – нелепое,
неуклюжее, но удивительно эффективное решение проблемы. Понятие клуджа
проливает свет на важные стороны нашей жизни и объясняет множество проблем, с
которыми мы сталкиваемся. Выводы автора оптимистичны: имея должное понимание
соотношения сил и слабостей человеческого ума, мы получаем возможность помочь
не только себе, но и обществу.
Моему
отцу, открывшему мне мир
Живые
организмы – исторические структуры: это буквально создания истории. Они
представляют не идеальную инженерную конструкцию, а лоскутное одеяло, состоящее
из разрозненных частей, по случаю соединенных вместе.
Франсуа
Жаков
Лучше
плохо, чем никак.
Поговорка
1
Пережитки прошлого
Говорят,
что человек – разумное животное. Всю жизнь я пытался найти подтверждения этому.
Бертран
Рассел
Правда
ли, что человек «благороден разумом» и «беспределен в своих способностях», как
писал в своих бессмертных строках Уильям Шекспир? И создан по образу и подобию
Божию, как утверждают церковники? Едва ли.
Будь
человечество творением интеллигентного сердобольного Создателя, наши мысли были
бы рациональными, а логика – безукоризненной. Наша память была бы тверда, а
воспоминания надежны. Наши высказывания были бы четки, слова точны, язык
систематичен и организован, а не запутан неправильными глаголами (sing-sang,
ring-rang, но при этом bring-brought). Как заметил лингвист Ричард Ледерер, в
гамбургере должна быть ветчина (ham – hamburger), а в баклажане – яйца (egg –
eggplant). И носителям английского языка надлежит парковаться на автострадах
(park – parkways), а водить автомобиль исключительно на подъездных путях (drive
– driveways).
В
то же время мы, люди, – единственные существа, достаточно умные для того, чтобы
постоянно планировать наше будущее – впрочем, очень ненавязчиво, так, чтобы при
случае забыть самые тщательно разработанные планы в угоду скоропостижной
прихоти.
(«Я
говорила, что на диете? Но ведь это мой самый любимый шоколадный мусс… Пожалуй,
диета подождет до завтра».) Мы радостно мчимся через весь город, чтобы
сэкономить $25 на покупке стодолларовой микроволновки, но отказываемся проехать
ровно такое же расстояние, чтобы сэкономить те же самые $25 на телевизоре с
плоским экраном, который стоит $1000. Мы едва способны уловить разницу между
правомерным силлогизмом, например, все люди смертны, Сократ человек,
следовательно, Сократ смертен – и ложным эквивалентом, например, все
живое нуждается в воде, розы нуждаются в воде, следовательно они живые (что
звучит вполне нормально, пока на месте роз не окажутся автомобильные
аккумуляторы). И не надо привлекать меня к даче свидетельских показаний, исходя
из абсурдной предпосылки, что мы, люди, можем точно помнить детали увиденного
нами несчастного случая или преступления спустя годы, тогда как средний человек
с трудом удерживает в голове список из десятка слов в течение получаса.
Я
далек от мысли, что «дизайн» человеческого мозга никуда не годится, но будь я
политиком, непременно постановил бы считать его ошибкой природы. Цель этой
книги – объяснить, какие именно ошибки были ею совершены и почему.
Там,
где Шекспир воображал беспредельный разум, я вижу и кое-что другое, инженеры
называют это клуджем. Клудж – это нелепое, неуклюжее, но удивительно
эффективное решение проблемы. Посмотрим, например, что случилось в апреле 1970
года, когда на уже и так находящемся в опасности космическом корабле
«Аполлон-13» начали отказывать фильтры СO2. Способа доставить
команде фильтр для замены не было: челночный космический аппарат тогда еще
не изобрели. Возможности вернуть космическое судно домой тоже не существовало.
Без фильтра команда была обречена. Инженер центра управления полетом Эд Смайл,
консультировавший команду, сказал: «Вот все, что доступно на корабле.
Придумайте что-нибудь». К счастью, наземная команда достойно приняла вызов и
оперативно изобрела нечто наподобие фильтра из пластикового пакета, картонной
коробки, клейкой ленты и носка. Жизнь трех астронавтов была спасена. Как
вспоминал позже один из них, Джим Ловелл: «Приспособление не блистало красотой,
но оно работало».
Далеко
не всякий клудж призван спасать жизни. Иногда их изобретают из спортивного
интереса, скажем, чтобы продемонстрировать возможность создания компьютера из
игрушечных конструкторов, а бывает, что инженеры просто ленятся сделать что-то
как следует. Некоторые собирают клуджи на скорую руку от отчаяния или
недостатка ресурсов, как это было с телевизионным персонажем Макгивером,
которому, чтобы выйти из положения, пришлось срочно соорудить башмаки из
клейкой ленты и резиновых ковриков. А бывает, что клуджи создают исключительно
ради смеха, подобно тому как Уоллес и Громит придумали будильник
+ кофемашину, Мерфи – откидную кровать, а Руб Голдберг – «упрощенную
точилку для карандашей» (воздушный змей за окном прикреплен веревкой к дверце
клетки с бабочками, дверца открывается, это позволяет вылетать бабочкам, и
после серии последовательных действий все выливается в итоге в освобождение
дятла, который обтачивает дерево вокруг грифеля). Башмаки Макгивера и точилка
Голдберга – ничто в сравнении с, пожалуй, самым фантастичным клуджем из всех –
человеческим мозгом, нелепым и вместе с тем изумительным творением слепого
процесса эволюции.
Происхождение
слова клудж сродни понятию, обозначающему захватывающее устройство. Некоторые
усматривают в нем связь с шотландским cludgie, что означает «отхожее место».
Большинство же связывают слово с немецким kluge, т.е. «умный». Словарь
компьютерного жаргона хакеров прослеживает термин до 1935 года, когда «Kluge
paper feeder» – механизм протяжки бумаги клудж – описывался как
«вспомогательное средство к механическим печатающим прессам».
Практически
все сходятся на том, что термин получил распространение в 1962 году после
публикации статьи под названием «Как спроектировать клудж», иронично написанной
компьютерным пионером по имени Джексон Гренхольм, определившим клудж как «набор
несовместимых друг с другом плохо подогнанных элементов, образующих ужасающее
целое». И далее: «создание клуджа – работа не для любителей. Тут требуется
неизъяснимая мазохистская ловкость. Профессионал поймет это сразу. Любитель
может предположить, что именно так и устроен компьютер».
Инженерный
мир полон клуджей. Возьмите, например, вакуумные очистители ветрового стекла в
автомобилях до начала 1960-х годов. Современные стеклоочистители, как и
большинство приспособлений на автомобилях, приводятся в действие
электричеством, но в те дни мощность электричества была едва достаточной для
запуска свечей зажигания, и уж конечно, ее не хватало для такого излишества,
как стеклоочистители. Тогда один ученый инженер придумал клудж, который
приводился в действие не электричеством, а мотором с подсосом при посредстве
двигателя. Единственная проблема состояла в том, что сила подсоса, создаваемого
двигателем, менялась в зависимости от затрат энергии. Чем больше ее
требовалось, тем меньше вакуума он производил. Получалось, что, когда кто-то
ехал в «бьюике» 1958 года в гору, и набирал скорость, движение щеток
замедлялось или они вовсе переставали работать. Не позавидуешь нашим дедушкам,
оказавшимся в дождливый день в горах!
Вот
что действительно поражает, если оглянуться назад: большинство людей, вероятно,
даже и не догадывались, что можно было придумать что-то более подходящее. И в
этом, я думаю, состоит великая метафора специфики человеческого мозга. Мозг,
бесспорно, впечатляет и намного лучше любой доступной альтернативы. И все же
это дефектный механизм, хотя часто мы практически не замечаем его ущербности.
По большей части мы просто принимаем наши недостатки – такие как эмоциональные
всплески, нашу заурядную память, наши предрассудки – как стандартное
оборудование. Вот почему понимание наших несовершенств и того, как мы можем
преодолеть их, порой требует взгляда со стороны. Лучшие научные и инженерные
решения часто возникают, когда есть не просто знание, как устроены вещи, а
представление, как еще они могут быть устроены.
Если
инженеры создают клуджи преимущественно в целях экономии денег или времени, то
почему их творит природа? Эволюция не отличается ни умом, ни скаредностью. Тут
никто не вкладывал денег и не проявлял дальновидности, и, если потребуются
миллиарды лет, кто станет жаловаться? Тем не менее при внимательном взгляде на
биологию обнаруживаются клудж на клудже. Человеческий позвоночник, например,
отвратительное решение проблемы поддержания двуногого существа в вертикальном
положении. Куда больше смысла имело бы распределить наш вес поровну на четыре
опоры. Вместо этого весь наш вес несет единственный позвоночный столб,
создавая непомерную нагрузку на хребет. Мы ухитряемся сохранять вертикальное
положение (и свободные руки), но ценой страшных болей в спине у многих людей.
Мы согласны с этим едва ли адекватным решением не потому, что это лучший способ
поддерживать вес двуногого существа, а потому, что структура позвоночника
эволюционировала из позвоночника четвероногого животного, а стоять на ногах
хоть как-то (для созданий, которые пользуются инструментами) лучше, чем не
стоять вовсе.
В
то же время сетчатка глаза, воспринимающая свет (ретина), расположена задом
наперед и обращена к задней части головы, а не вперед. В результате все
предстает перед нами особым образом, в частности, в каждом глазу человека есть
слепые пятна – области, не чувствительные к свету.
Другой
хорошо известный пример эволюционного клуджа – одна интимная деталь мужской
анатомии. Выводные протоки от семенников к уретре куда длиннее, чем это
необходимо: они идут вперед, разворачиваются в противоположную сторону и делают
поворот на 180° обратно к пенису. Бережливый дизайнер, заинтересованный в
экономии материалов (или эффективности их доставки) связал бы семенник
непосредственно с пенисом короткой трубкой. Только оттого, что биология
строится на том, что уже было раньше, она так бессистемна. Или словами одного
ученого: «Человеческое тело – это набор несовершенств с… бесполезной
выпуклостью над ноздрями, с гниющими зубами и вызывающими проблемы зубами
мудрости, с больными ногами, ноющей спиной, оголенной нежной кожей, беззащитной
перед порезами, укусами и солнечными ожогами. Мы плохие бегуны и в три раза
слабее шимпанзе, хотя они меньше нас по размеру».
К
этому перечню типично людских несовершенств мы можем добавить десятки других,
присущих всему животному миру, например, это предательская система разделения нитей
ДНК до репликации ДНК (ключевого процесса в делении клетки). Одна молекула
полимеразы ДНК выполняет свою работу нормально, но другая делает это совершенно
непредсказуемым образом, способным свести с ума любого здравомыслящего
инженера.
Природа
склонна создавать клуджи, так как ей нет дела до того, насколько совершенно и
прекрасно ее произведение: если оно работает, то размножается. Если не
работает, то умирает. Гены, которые ведут к успешным результатам, передаются по
наследству, гены, создающие недееспособных существ, исчезают. Суть в
адекватности, а не в красоте.
Все
это ни у кого не вызывает сомнений, когда речь идет о теле, но почему-то, когда
говорят о мозге, многие считают иначе. Хорошо, мой позвоночник – клудж, моя
сетчатка тоже, но мой мозг! Одно дело согласиться с тем, что несовершенно наше
тело, но совсем другое – принять мысль, что и мозг – тоже.
На
самом деле традиционно все считают наоборот. Аристотель видел в человеке
«мыслящее животное», а экономисты, если вспомнить Джона Стюарта Милля и Адама
Смита, исходят из того, что люди принимают решения на основе собственных
интересов, стараясь везде, где только можно, купить дешевле, а продать дороже и
извлечь как можно больше пользы.
В
последнее десятилетие некоторые ученые начали доказывать, что все дело в
байесовской вероятности[1],
которая математически оптимальна. Один престижный журнал недавно посвятил целое
эссе этой теме, где высказались трое известных ученых из Массачусетского
технологического института, Калифорнийского Университета в Лос-Анджелесе и
медицинского колледжа Лондонского университета. Они доказывали: «Представляется
все более вероятным, что человеческое сознание можно объяснить с точки зрения
рациональных представлений… в основных проявлениях человеческое сознание
приближается к оптимальному уровню исполнения».
Вопрос
оптимальности – тоже постоянно повторяющаяся тема во все более популярной
области эволюционной психологии. Например, Джон Туби и Леда Космидис, создатели
этого научного направления, писали: «Поскольку естественный отбор – это
прогрессивный процесс, когда выбираются лучшие варианты и существует огромное
число альтернатив, возникающих на протяжении длительного периода эволюции, то
естественный отбор обычно приводит к накоплению в высшей степени функционально
спроектированных объектов».
Им
вторит Стивен Пинкер, утверждая, что «части мозга, позволяющие нам видеть, на
самом деле хорошо сконструированы, и нет оснований считать, что качество
инженерной мысли катастрофически ухудшается, когда информация доходит до уровня
способности интерпретировать то, что мы видим, и реагировать на это».
Книга,
которую вы читаете, отстаивает прямо противоположную точку зрения. Хотя ни один
разумный ученый не сомневается в том, что естественный отбор может создавать в
высшей степени функциональный дизайн, ясно и то, что превосходное инженерное
решение никак не гарантировано. В отличие от большинства экономистов,
байесианцев и эволюционных психологов, я доказываю, что человеческий мозг
являет собой такой же клудж, что и тело. И если это правда, то наши
представления о самих себе – о человеческой природе – необходимо пересмотреть.
В
обширной литературе по эволюционной психологии мне известны лишь несколько
аспектов человеческого мозга, которые считаются нелепыми. Хотя большинство
эволюционных психологов признают возможность субоптимальной эволюции в
принципе, на практике, когда обсуждаются человеческие ошибки, почти всегда при
выяснении, почему что-то явно не адаптивно, оказывается, что на самом деле это хорошо
сконструировано.
Возьмем,
например, детоубийство. Никто не станет доказывать, что детоубийство морально
оправданно, но почему оно случается вообще? С точки зрения эволюции
детоубийство не просто аморально, но непостижимо. Если мы существуем как
резервуары, где размножаются гены, как утверждал Ричард Докинз, почему родитель
способен убить собственного ребенка?
Мартин
Дейли и Марго Вилсон доказывали, что с точки зрения гена детоубийство имеет
смысл лишь в крайне редких случаях: когда родитель в действительности не связан
кровным родством с ребенком (например, приемный отец), когда отец сомневается в
своем отцовстве или когда мать не способна обеспечить надлежащий уход за
новорожденным и тем не менее в перспективе сможет лучше ухаживать за будущим
ребенком (скажем, поскольку настоящий ребенок безнадежно болен). Как показали
Дейли и Вилсон, примеры убийства и надругательства над ребенком укладываются в
эти гипотезы.
Или
рассмотрим не вызывающий удивления факт, что мужчина (но не женщина)
систематически переоценивает сексуальные намерения потенциальных партнеров.[2] Это что, просто
случай, когда желаемое принимается за действительное? Вовсе нет, доказывают
эволюционные психологии Марти Хезлтон и Дэвид Басс. Наоборот, это весьма
эффективная стратегия, сформированная естественным отбором, когнитивная ошибка,
усиленная природой. Стратегия, которая ведет к растущему репродуктивному
успеху, широко распространяемому по всей популяции. И мужские особи, которые
были склонны передавать много сигналов потенциальным партнершам, могли иметь
больше возможностей воспроизводиться, чем более осторожные представители пола,
которые, вероятно, по простоте душевной упускали свой шанс. С точки зрения гена
нашим предкам мужского пола имело смысл рисковать преувеличенным восприятием,
поскольку получение лишней возможности воспроизведения потомства существенно
перевешивает негативы, такие как урон для самооценки либо репутации или
обманчивое угадывание возможности там, где ее нет. То, что кажется ошибкой,
систематическим предубеждением в толковании мотивов других человеческих существ,
в данном случае может на самом деле быть положительной чертой.
Читая
подобные умные, тщательно обоснованные примеры, легко прийти в состояние
душевного подъема и считать, что за каждым капризом природы или несовершенством
стоит стратегия приспособления. Подведение подобных обоснований явно исходит из
того, что оптимизация – неизбежный результат эволюции. Но оптимизация – отнюдь
не неизбежный результат эволюции, а всего лишь один из возможных.
Некоторые
очевидные ошибки могут обернуться преимуществами, но – как свидетельствуют
позвоночник и перевернутая сетчатка – некоторые ошибки могут быть поистине
субоптимальными и сохраняются лишь потому, что эволюция не нашла лучшего пути.
Естественный
отбор, ключевой механизм эволюции, хорош лишь случайными мутациями. Если данная
мутация полезна, она передается по наследству, но наиболее благоприятные
мутации, которые можно вообразить, увы, не возникают. Как гласит старая
пословица: «Человек предполагает, а Бог располагает»; мутацию, которая не
возникает, нельзя выбрать. Если формируется правильный набор генов,
естественный отбор, вероятно, обеспечивает широкое распространение генов, но,
если такого не происходит, все, что может сделать эволюция, – это выбрать
лучший из доступных вариантов.
Для
наглядности представим эволюцию как процесс подъема в горы. Ричард Докинз,
например, отмечал: маловероятно, чтобы эволюция создавала какой-либо сложный
вид или орган (скажем, глаз) одним махом – слишком много удачных мутаций
понадобилось бы осуществить одновременно. Но можно достигать совершенства
постепенно. Или словами Докинза:
«…не нужно быть математиком или физиком,
чтобы рассчитать, что понадобится целая вечность, чтобы глаз или молекула
гемоглобина образовались сами по себе исключительно наудачу. Можно не быть
последователями дарвинизма, но непостижимость глаза или колена, энзимов или
локтевых суставов и других существующих в жизни чудес – проблема, которую
должна разрешить любая теория жизни, и дарвинизм однозначно делает это. Он
решает ее, разбивая невероятные события на маленькие, управляемые части, по
крохам добывая необходимую удачу, обходя непреодолимую гору сзади и преодолевая
доступные склоны, шаг за шагом по миллиону лет.»
И
конечно, примеров совершенной эволюции великое множество. Сетчатка
человеческого глаза, например, может различить единственный фотон в темной
комнате. А улитка уха (волосковая сенсорная клетка внутреннего уха, которая
вибрирует в ответ на звуковые волны) способна улавливать малейшие вибрации с
амплитудой меньшей, чем диаметр атома водорода. Наши визуальные системы,
несмотря на замечательные компьютерные достижения, по-прежнему превосходят
визуальные возможности любой машины. Паучья сеть крепче стали и эластичнее
резины. В остальном, будучи равноправными, виды (и органы, от которых они
зависят) со временем все лучше и лучше приспосабливаются к окружающей среде –
порой даже достигая теоретических пределов, как в случае с вышеупомянутой
чувствительностью глаза. Гемоглобин (ключевой ингредиент красных кровяных
телец) великолепно адаптирован к задаче доставки кислорода, настраиваясь
незначительными колебаниями у различных видов так, что может загружать и
разгружать запас кислорода способами, оптимально соответствующими
преобладающему атмосферному давлению, – одним способом для существ, живущих на
уровне моря, другим для таких видов, как горный гусь, обитатель верховьев рек в
Гималаях. Начиная с биохимии гемоглобина и заканчивая замысловатыми оптическими
системами глаза, есть тысячи проявлений биологии, когда она поразительно близка
к совершенству.
Но
очевидно, что идеал достигается далеко не всегда; вероятность несовершенства
становится очевидной, когда мы понимаем, что эволюция достигает не вершины, а
горной гряды. Обычно упускается из виду то, что для эволюции весьма
характерно застревать на точке, находящейся ближе всего к потенциальной
вершине, известной как «локальный максимум». Как отмечали Докинз и многие
другие, эволюция имеет тенденцию идти маленькими шажками.[3] Если быстрые изменения не
способствуют совершенствованию, организм, вероятно, останется на горной гряде,
пусть даже какие-то отдаленные вершины и кажутся более привлекательными.
Клуджи, о которых я уже говорил, – позвоночник, перевернутая сетчатка глаза и
т.д. – примеры того, что эволюция застряла где-то в горах, не достигнув
подлинных вершин.
В
конечном итоге эволюция не стремится к совершенству. По словам нобелевского
лауреата Херба Саймона, это достижение удовлетворительного, достаточно хорошего
результата. Результат может быть прекрасным, а может быть клуджем. Со временем
эволюция может дать и то и другое: как прекрасные биологические объекты, так и
сляпанные наспех, которые в лучшем случае просто функционируют.
В
действительности нередко совершенство и брак сосуществуют бок о бок.
Высокоэффективные нейроны, например, связаны со своими соседями поразительно
неэффективными синаптическими щелями, которые трансформируют эффективную
электрическую активность в менее эффективные химические соединения, а они в
свою очередь тратят тепло и теряют информацию. Аналогично глаз позвоночного
животного с его утонченными механизмами для фокусирования света,
приспособленными к различным режимам освещения и т.д., во многих отношениях
невероятно изыскан. Но хотя он действует более изощренно, чем большинство
цифровых камер, все же его портит перевернутая сетчатка и сопутствующие этому
слепые пятна. На высшем пике эволюции наши глаза могли бы работать на своем
максимуме, но сетчатка должна быть обращена вперед (как у осьминога), что
исключает слепые пятна. Человеческий глаз достаточно хорош, насколько это возможно
при обращенной назад сетчатке, но он мог бы быть лучше – вот прекрасная
иллюстрация, как природа случайно чуть-чуть не дотягивает до высочайшей
вершины.
Есть
несколько объяснений, почему в тот или иной момент данное создание может иметь
не совсем оптимальную конструкцию. Это может быть случайность (абсолютное
невезение), стремительные изменения окружающей среды (например, если происходит
падение крупного метеорита, ледниковый период или иной катаклизм, эволюции
нужно время, чтобы наверстать упущенное) или фактор, которому во многом
посвящена эта книга: история, заключенная в нашем геноме. История имеет
потенциальное – иногда пагубное воздействие, поскольку на то, что может
развиваться в данный момент, мощно влияет то, что возникло в результате прежней
эволюции. Как корни современных политических конфликтов частично можно
обнаружить в конвенциях, последовавших за мировыми войнами, нынешнюю биологию
можно рассматривать через призму истории более ранних творений. Как сказал
Дарвин, жизнь есть результат «наследственных изменений»; существующие формы
лишь измененные версии более ранних. Человеческий позвоночник, например, возник
не потому, что был наилучшим из возможных решений, – он был создан на базе
того, что уже существовало (позвоночник четвероногого существа).
Это
наводит на понятие, которое я называю «эволюционной инерцией», заимствованное у
Ньютона с его законом инерции (тело, находящееся в состоянии покоя, имеет
тенденцию сохранять состояние покоя, а тело, находящееся в движении, имеет
тенденцию сохранять движение). Эволюция обычно имеет дело с тем, что уже есть,
и модифицирует это, а не начинает с нуля.
Эволюции
присуща инерция, так как новые гены должны работать во взаимодействии со
старыми, и эволюцией движет ближайшая перспектива. Создания – носители гена
либо живут и размножаются, либо нет. Следовательно, естественный отбор имеет
тенденцию благоприятствовать тем генам, которые обнаруживают преимущества
немедленно, и отвергать другие возможности, которые могут привести к лучшему
функционированию в будущем. Таким образом, процесс происходит подобно тому, как
действует менеджер по продукту, который заинтересован поскорее поставить
продукт на рынок, даже если сегодняшние недоработки могут впоследствии привести
к проблемам.
В
итоге, как сформулировал нобелевский лауреат Франсуа Жакоб, эволюция подобна
кустарю, «который… часто не зная, что он хочет сделать… берет все, что
попадется под руку, – старый картон, обрывки веревки, куски дерева или металла,
– чтобы сделать работающий объект… [в результате получается] странный,
собранный наудачу агрегат». Если нужда – мать изобретений, то кустарничество –
чокнутый дедушка клуджа.
Короче
говоря, эволюция часто происходит путем наваливания новых систем на крышу
старых. Прекрасно описал эту аналогию нейрофизиолог Джон Оллман. Как-то он
посетил электростанцию, где одновременно сосуществовали по меньшей мере три
поколения технологий, прилаженных друг к другу. Новейшая компьютерная
технология работала не сама по себе, а на службе у электронных ламп (наверное,
образца 1940 года), которые в свою очередь управляли еще более старыми
пневматическими механизмами, приводимыми в действие сжатым газом. Если бы
инженеры станции могли позволить себе роскошь пользоваться всей системой в
автономном режиме, без сомнения, они начали бы с нуля и избавились от
устаревших систем разом. Но постоянная потребность в энергии препятствует такой
решительной реконструкции.
Подобным
образом живые существа постоянно должны выживать и воспроизводиться, что часто
мешает эволюции строить по-настоящему оптимальные системы; эволюция не может
перевести свои продукты на автономный режим точно так же, как не могут
люди-инженеры, и в результате получаются такие нелепые конструкции, когда новую
технологию наваливают на старую. Средний мозг человека, например, существует
буквально поверх более древнего заднего мозга, а передний мозг надстроен на
вершине их обоих. Задний мозг, самый старый из всех (возник по меньшей мере
полмиллиарда лет назад), отвечает за дыхание, равновесие, проворство и другие
функции, которые одинаково важны как для динозавра, так и для человека. Средний
мозг, появившийся вслед за ним, координирует визуальные и слуховые рефлексы и
контролирует такие функции, как движения глаз. Передний мозг, отдел мозга,
возникший последним, управляет такими вещами, как речь и принятие решений, но
способами, которые часто зависят от старых систем. Как вы можете узнать из
любого учебника по нейрофизиологии, язык очень сильно зависит от поля Брока,
левой зоны переднего мозга величиной с орех, но еще зависит и от более старых
систем, таких как мозжечок и наследственные системы памяти, которые не идеально
подходят для этого. В ходе эволюции наш мозг стал чем-то вроде палимпсеста,
древнего манускрипта с несколькими слоями текстов, написанных в разные времена,
когда старые части скрыты новыми.
Оллман
расценивал этот несовершенный процесс, посредством которого новые системы
надстраиваются поверх старых, а не начинаются с нуля, как «прогрессирующее
наложение технологий». Конечный продукт с большой вероятностью будет клуджем.
Конечно,
объяснение, почему эволюция вообще может приводить к решениям в духе
клуджа, еще не доказывает, что человеческий мозг – клудж. Но есть две веские
причины считать, что это похоже на правду: относительная непродолжительность
нашей эволюции и природа нашего генома.
Рассмотрим
для начала короткий промежуток существования человека и что из этого вытекает.
Бактерия живет на планете три миллиарда лет, млекопитающие – триста миллионов.
Люди – максимум несколько сотен тысяч лет. Язык, культура и способность
мыслить, вероятно, возникли только в последние пятьдесят тысяч лет. По меркам
эволюции это время непродолжительное для отладки и достаточно долгое для
накопления эволюционной инерции.
Между
тем, хотя средний человек устраивает свою жизнь так, что она весьма сильно
отличается от жизни средней обезьяны, геном человека и геном примата почти
одинаковы. Человеческий геном, измеренный последовательностью нуклеотидов, на
98,5% идентичен геному шимпанзе. Из этого следует, что большая часть
генетического материала эволюционировала в окружении созданий, не имеющих
языка, культуры и разума. Это означает, что характеристики, которые мы
считаем наиболее ценными, черты, которые больше всего выделяют нас как людей, –
язык, культура, ясность мышления – должны были строиться на генетической
основе, первоначально приспособленной совсем для иных целей.
В
этой книге мы пройдем по наиболее важным ментальным сферам жизни человека: это
память, убеждения, выбор, язык, удовольствие. И я покажу вам, что каждая из них
изобилует клуджами.
Бывают
блестящие люди, а бывают тупицы; одни ударяются в религию, другие впадают в
разрушительную наркозависимость, а кто-то не может жить без ночных
радиопередач. У всех у нас есть слабости – не только у работяг, мечтающих
выпить в конце недели, но и у врачей, юристов, политических лидеров, о чем
свидетельствуют, например, книги Джерома Групмэна «Как думают доктора» и
Барбары Такман «Марш глупости». В традиционной теории эволюции много говорится
о том, как естественный отбор шел по пути лучших решений, но куда меньше – о
том, почему человеческий мозг подвержен постоянным ошибкам.
В
книге я размышляю о том, почему наша память так часто нас подводит и почему мы
нередко верим тому, чего нет, и не верим в то, что есть. Я пытаюсь разобраться,
почему половина американцев верит в привидения и как получается, что почти
четыре миллиона человек на голубом глазу утверждают, что их похищали
космические пришельцы. Я показываю, как мы тратим (и часто зря) наши деньги,
почему бросаем их на ветер и почему мы считаем, что постное на 80% мясо гораздо
предпочтительнее мяса, в котором 20% жира.
Я
исследую происхождение языков и объясняю, почему язык часто неправилен,
непоследователен, неточен и в связи с этим почему такое предложение, как
«People people left left», сбивает нас с толку, хотя это всего лишь четыре
слова. Я рассматриваю также, что делает нас счастливыми и почему. Часто
говорят, что удовольствие существует для того, чтобы направлять развитие видов,
но зачем, например, мы проводим столько часов перед телевизором, который никак
не улучшает наши гены? И почему душевные болезни распространены настолько, что
затрагивают так или иначе почти половину населения? И почему, в конце концов, невозможно
купить счастье?
Клудж,
клудж, клудж. В каждом случае я покажу, что лучше всего мы способны понять наши
ограничения, рассмотрев роль эволюционной инерции в формировании человеческого
мозга.
Это
вовсе не означает, что когнитивная причуда не может иметь своих плюсов.
Оптимисты часто находят некоторое утешение даже в наших самых тягостных
ментальных ограничениях: коли память плоха, так это для того, чтобы защитить
нас от душевной боли; если язык туманен, то лишь затем, чтобы мы могли говорить
«нет», не говоря «нет».
Что
ж, так бывает; но есть разница между способностью использовать неоднозначность
высказывания (скажем, в поэзии или из вежливости) и неумением изъясняться
внятно. Если наши слова можно истолковать неправильно, хотя мы хотели
выразиться ясно, или наша память подводит нас даже в минуту, когда на кону
чья-то жизнь (например, когда свидетель дает показания на суде), – самое время
подумать об умственном несовершенстве человека.
Я
не хочу выплескивать ребенка вместе с водой или даже предполагать, что клуджи
численно превосходят более благополучные формы адаптации. Биолог Лесли Оргел
писал: «Мать-природа умнее, чем мы», и по большей части так оно и есть. Ни
одного человека нельзя и рядом поставить с ее делами, и в большинстве своем
создания природы, если и не совершенны, то целесообразны. Но такая аргументация
может завести нас слишком далеко. Когда философ Дэн Деннет говорит, что «снова
и снова биологи, сбитые с толку явными образцами плохого дизайна в природе, в
конечном итоге приходили к мысли, что они постигли ее изобретательность,
гениальность и глубину замысла, которые обнаруживают творения матери-природы»,
– это преувеличение. В век, когда машины способны превзойти человека в
интеллектуальном соревновании, начиная от шахмат и заканчивая статистическим
анализом, можно поразмышлять о других способах решения когнитивных проблем
физическими системами, и природа не всегда окажется победителем. Вместо того
чтобы исходить из идеи, что природа всегда изобретательна, стоит взять
по отдельности каждый аспект психической деятельности и отделить то, что
действительно безупречно, от случаев, когда природа на самом деле могла
сработать и получше.
Независимо
от того, чего больше – клуджей или совершенных творений, – клуджи дают нам две
подсказки, которых совершенство не дает. Первая: они позволяют взглянуть
по-новому на нашу эволюцию; когда мы видим совершенство, мы часто не можем
сказать, какой из многих сходных факторов может привести к идеальному решению;
часто, лишь увидев швы, мы можем предположить, как изначально это создавалось.
Совершенство по крайней мере в принципе, может быть продуктом всесильного,
всеведущего Создателя; несовершенства не только оспаривают эту идею, но и
предлагают материал для анализа, уникальную возможность воссоздать прошлое и
лучше понять человеческую природу. Как отмечал в одной из своих поздних работ Стивен
Джей Гулд, несовершенства, «пережитки прошлого, которые не имеют значения с
точки зрения настоящего, – бесполезные, нелепые, необычные и неуместные – знаки
истории».
И
вторая подсказка: клуджи могут навести нас на мысль о том, как мы можем
усовершенствовать себя. Будь мы на 80% совершенны и на 20% несовершенны (цифры
не имеют никакого значения, все зависит от того, как считать), людям есть к
чему стремиться, и клуджи могут задать направление. Взглянув на себя честно в
зеркало, признав слабые и сильные стороны, мы получаем шанс добиться большего
от наших замечательных, но пока еще неидеальных умственных способностей,
унаследованных в результате эволюции.
2
Память
Память
– это чудовище; вы забудете, она – нет. Она все архивирует. Что-то она
сберегает для вас, а что-то прячет, а потом вдруг предъявляет по собственному
желанию. Вы думаете, что вы обладаете памятью, на самом деле это она владеет
вами.
Джон
Ирвинг
Память,
по моему убеждению, мать всех клуджей, единственный фактор, ответственный за
своеобычность человеческого ума.
Наша
память поражает нас, и она же постоянно разочаровывает; мы можем узнать
фотографии давностью в несколько десятков лет из школьного альбома, но не в
состоянии вспомнить, что ели вчера на завтрак. Наша память вечно все искажает,
путает, а то и просто отказывает. Мы можем знать слово, но не способны
вспомнить его в нужный момент (начинается с буквы «с», ну, устройство такое с
костяшками)[4],
или мы можем узнать что-то полезное (скажем, как удалить пятно от томатного
соуса) и немедленно забыть это. Средний ученик старших классов тратит несколько
лет на зубрежку, запоминая даты, имена и географические наименования, и в то же
время многие подростки не могут назвать даже век, в котором была Первая
мировая война.
Уж
я-то знаю, о чем говорю. Чего только я не терял в своей жизни: ключи, очки,
сотовый телефон, даже паспорт. Я забывал, где припарковался, уходил из дома без
ключей, а в один злополучный день оставил на лавочке в парке кожаную куртку (и
в кармане – второй сотовый телефон). Моя мама однажды целый час разыскивала
свою машину в гараже аэропорта. Недавно в Newsweek писали, что обычный
человек тратит в среднем 55 минут в день, «разыскивая вещи, которые точно есть,
но куда-то подевались».
Память
может подвести в ту самую минуту, когда от нее зависит жизнь. Известно, что
парашютисты иногда забывают потянуть трос, чтобы открыть парашют (примерно 6%
смертей парашютистов), аквалангисты забывают проверить уровень кислорода, и
немало родителей ненароком оставляют своих чад запертыми в машине. Пилоты давно
знают, что есть лишь один способ летать: с контрольным листом, полагаясь на
записи, а не на свою память, снова и снова проверяя, все ли сделано. (Выпущены
ли закрылки? Проверен ли уровень топлива?) Без контрольного листа легко забыть
не только ответы, но и сами вопросы.
Если
эволюция направлена на то, чтобы все функционировало успешно, почему же наша
память работает из рук вон плохо?
Вопрос
приобретает особую остроту, когда мы сравниваем хрупкость нашей памяти с
надежностью памяти среднего компьютера. Если мой макинтош способен хранить (и
находить в нужный момент) адреса всех моих корреспондентов, местоположение всех
стран в Африке, полные тексты всех электронных писем, которые я когда-либо
посылал, и все фотографии, сделанные мной с 1999 года (когда я приобрел свою
первую цифровую камеру), не говоря уже о первых 300 цифрах числа пи, то я не
одолел пока еще стран Африки и с трудом вспоминаю, кому я в последний раз
писал, а тем более о чем. Я так и не смог запомнить даже первые десять цифр числа
пи (3,1415926535) – несмотря на то, что я своего рода ботан, который старается
удержать в голове как можно больше информации.[5]
Человеческая
память на фотографические детали не лучше; мы можем запомнить главные элементы
фото, которое видели раньше, но, как показывают исследования, люди часто не
замечают маленьких или даже достаточно крупных изменений фона.[6] Что касается меня, я
никогда не могу запомнить детали фотографии, независимо от того, сколько
времени сижу и смотрю на нее. Тем не менее пока еще я держу в памяти несколько
телефонных номеров, которые усвоил еще в детстве, когда у меня была куча
свободного времени, зато понадобился год, чтобы я выучил наизусть номер
сотового телефона моей жены.
Еще
хуже то, что если мы ухитряемся закодировать память, то исправить это бывает
очень трудно. Возьмем, например, проблему, которая у меня была с фамилией моей
коллеги Рейчел. Через пять лет после того, как она развелась с мужем и
вернулась к своей девичьей фамилии, я все еще продолжал называть ее
по-прежнему, поскольку привычка закрепилась. В то время как компьютерная память
точна, человеческая память во многих отношениях подводит нас.
Компьютерная
память работает хорошо, поскольку программисты организуют информацию как
гигантскую карту: каждое наименование относится к особому месту, или
«адресу» в компьютерных базах данных. С этой системой, которую я назову памятью
почтового адреса, когда компьютер должен извлечь конкретные данные, он просто
обращается по нужному адресу. (Карта памяти в 64 мегабайта содержит примерно 64
млн таких адресов, и каждый содержит одно «слово», образуемое набором из восьми
бинарных цифр.)
Память
почтового адреса столь же сильна, сколь проста; если ее использовать надлежащим
образом, она позволяет компьютерам хранить практически любую информацию и почти
абсолютно надежно; к тому же она позволяет программисту легко изменить любые
данные; и если, скажем, Рейчел поменяла фамилию, то уже не обращаться к
ней по старой. Не будет преувеличением сказать, что память почтового адреса –
ключевой компонент практически любого современного компьютера.
Увы,
у людей все не так. Иметь память почтового адреса было бы чертовски полезно для
нас, но эволюция так и не обнаружила правильной части горной гряды. Мы, люди,
редко знаем точно, если знаем вообще, где хранится информация (кроме
чрезвычайно туманного представления, что «где-то в мозгу»), а наша память
эволюционировала совершенно по другой логике.
Вместо
памяти почтового адреса мы пришли к тому, что я называю «контекстуальной
памятью»: мы извлекаем из памяти то, что нам нужно, используя контекст, или подсказки,
которые намекают нам о том, что мы ищем. Словно всякий раз, когда нам
нужен конкретный факт, мы говорим себе: «Привет, мозг, извини, что беспокою
тебя, но мне нужны воспоминания о войне 1812 года. Найдется что-нибудь?» Часто
наш мозг оказывает нам услугу, быстро и точно выдавая искомую информацию.
Например, если я спрошу вас, кто режиссер фильма «Список Шиндлера», вы,
возможно, сразу же ответите – хотя у вас будет самое смутное представление о
том, где в вашем мозгу хранится эта информация.[7] Вообще, мы вытягиваем из нашей
памяти то, что нам требуется, с помощью разных подсказок, и, если все идет
гладко, нужная деталь просто «влетает» в наш мозг. В этом отношении доступ к
памяти напоминает дыхание – по большей части все происходит само собой.
И
что именно приходит в голову наиболее естественно, часто зависит от контекста.
Мы вспоминаем быстрее всего то, что знаем о садоводстве, находясь в саду, а то,
что знаем о приготовлении пищи, – на кухне. Контекст – иногда к добру, иногда
нет, – один из мощнейших сигналов, действующих на нашу память.
Контекстуальная
память имеет очень долгую историю; она обнаруживается не только у людей, но и у
обезьян, крыс, мышей и даже у пауков и улиток. Ученые открыли первые доказательства
силы контекстуальных знаков почти сто лет назад, в 1917 году, когда Харви Карр,
студент знаменитого бихевиориста-психолога Джона Уотсона, проводил обычное
исследование, которое подразумевало обучение крыс бегать по лабиринту.
Неожиданно Карр обнаружил, что крысы очень восприимчивы к факторам, которые не
имеют никакого отношения к самому лабиринту. Крысы, которых тренировали в
комнате с электрическим освещением, например, во время теста пробегали лабиринт
успешнее, чем те, которых тренировали при естественном освещении. Контекст, в
котором тестировали крысу, то есть среда, к которой она привыкла, влиял на
запоминание пробега в лабиринте, хотя освещение не имело отношения к задаче.
Таким образом, стало ясно, что почти каждое биологическое существо для доступа
к памяти в качестве главной силы использует контекст, независимо от того,
относится он к делу или нет.
Контекстуальная
память могла эволюционировать кружными путями, как вынужденный способ
компенсации неспособности природы разработать систему памяти почтового адреса
для доступа к хранимой информации, но тем не менее у системы, которую мы имеем,
есть и очевидные преимущества. С одной стороны, вместо обращения ко всей
информации, как это может делать компьютер, контекстуально зависимая память задает
приоритеты. Она поставляет прежде всего то, что нам требовалось
недавно, и то, что нам было необходимо раньше в ситуациях, подобных нынешней, –
то есть именно тот тип информации, которая нужна нам больше всего. С
другой стороны, контекстуально зависимую информацию можно искать параллельно с
другой, и тогда это хороший способ компенсировать тот факт, что нейроны
работают в миллионы раз медленнее, чем чипы памяти, используемые в цифровых
компьютерах. Более того, мы (в отличие от компьютеров) не должны отслеживать
детали нашего внутреннего оборудования; чаще всего для того, чтобы понять, что
нам нужно, мы должны задать себе правильные вопросы, а не определять конкретный
набор мозговых клеток.[8]
Никто
не знает точно, как это работает, но правомерно предположить, что каждое из
воспоминаний в нашем мозгу действует автономно, само по себе, в
соответствии с каждым запросом, тем самым устраняется необходимость в
посреднике, владеющем картой местности с пунктами размещения информации.
Конечно, когда вы полагаетесь на соответствие, а не на конкретное место,
которое известно заранее, нет гарантии, что выплывет правильное
воспоминание, чем меньше зацепок вы даете, тем больше «точек» ваша память
должна обслужить, и, следовательно, то, что вы действительно хотите вспомнить,
будет погребено среди кучи всего, что вам не нужно.
Контекстуальная
память имеет свои издержки, и это – надежность. Поскольку человеческая память
так сильно зависит от ассоциаций, а не от расположения информации в мозгу, нам
легко запутаться. Я не помню, что ел вчера на завтрак, потому, что его очень
легко спутать с позавчерашним и с позапозавчерашним. Был ли йогурт во вторник,
а вафли в среду, или все наоборот? Так много вторников и так много сред, так
много похожих сортов вафли для того, чтобы система, которая зиждется на
подсказках, работала без сбоев. (Представьте пилота, который настолько глуп,
что полагается на память, а не на контрольный лист, – один взлет будет
сливаться в памяти с другим. Раньше или позже шасси будут забыты.)
Всякий
раз, когда меняется контекст, возникает риск проблемы. Недавно, например, я
попал на вечеринку, где меня поразила внешность потрясающе талантливой актрисы,
которая играла роль Клэр Фишер в телесериале «Клиент всегда мертв» (Six Feet
Under). Я подумал: неплохо бы с ней познакомиться. Обычно мне не составило бы
труда вспомнить ее имя – я десятки раз видел его в титрах, но в этот момент у
меня в голове была пустота. К тому моменту, когда я встретил приятеля, который
мог напомнить мне ее имя, актриса уже ушла; я упустил свой шанс. Потом мне
стало совершенно ясно, почему мне не удалось вспомнить ее имени: контекст был
совершенно иным. Я привык видеть ее по телевизору как персонажа фантастического
шоу, поставленного в Лос-Анджелесе, а не в реальной жизни, в Нью-Йорке, в компании
общих знакомых, которые привели меня на вечеринку. В памяти человека контекст –
это все, и порой, как в данном случае, контекст работает против нас.
Контекст
оказывает мощное влияние – иногда помогая нам, иногда нет, – «заливая насос»
нашей памяти; когда я слышу слово «доктор», естественно вспомнить и слово
«медсестра». Если бы кто-то сказал «Лорен» (имя той самой актрисы), я,
вероятно, вспомнил бы и ее фамилию (Эмброуз), но без подсказки мне в голову
ничего не приходило.
Особенность
контекста в том, что он все время с нами – даже когда не имеет отношения к
тому, что мы пытаемся вспомнить. Эксперимент Карра с крысами, например, имеет
параллель с людьми в замечательном эксперименте с аквалангистами. Аквалангистов
попросили запомнить список слов, пока они находились под водой. Подобно тому
как крысам требовалось электрическое освещение для хороших результатов,
аквалангисты лучше вспоминали слова, выученные под водой, когда их экзаменовали
тоже под водой (по сравнению с тем, когда их проверяли на земле), – для
сухопутных существ это поразительно. Всякий раз, когда мы вспоминаем что-либо,
контекст маячит на горизонте.[9]
И
это не всегда хорошо. Как сказал Мерлин Манн в блоге «43 folders», момент,
когда мы замечаем, что нам нужна туалетная бумага, обычно не совпадает с
моментом, когда мы можем ее купить. Полагаться на контекст хорошо, если
обстоятельства, когда мы нуждаемся в информации, соответствуют той обстановке,
в которой мы ее усвоили. Но это сложно, когда есть несоответствие между
исходными обстоятельствами, в которых мы что-то выучили, и условиями, в которых
нам это надо вспомнить.
Еще
одно следствие контекстуальной памяти состоит в том, что почти каждый бит
информации из того, что мы услышали (увидели, ощутили, попробовали на вкус или
понюхали), нравится нам это или нет, запускает следующий ряд воспоминаний –
часто помимо нашего сознания. Марсель Пруст, автор понятия «непроизвольной
памяти», уловил часть идеи – все воспоминания в знаменитом романе «В поисках
утраченного времени» он вызывал у себя совершенно сознательно с помощью
узнаваемой комбинации вкуса и запаха.
Но
в действительности автоматическая, бессознательная память выходит за пределы
даже того, что воображал Пруст; эмоционально значимые запахи – всего лишь
верхушка айсберга. Возьмите, например, оригинальное исследование, проведенное
моим бывшим коллегой Джоном Баргхом в Университете Нью-Йорка. Испытуемых, все
они были студентами, попросили восстановить порядок слов в нескольких
предложениях. На листочках были даны вразнобой слова, связанные общей темой,
например старый, мудрый, забывчивый, Флорида, для выражения понятия
пожилого возраста. Испытуемые делали все, как им сказали, старательно выполняя
задание. Настоящий эксперимент, однако, начался, когда Баргх стал тайно снимать
их на видео, когда они, покидая здание, где проводился тест, шли к лифту.
Интересно, что слова, которые люди писали, влияли на скорость, с какой
они шли. Все были в одинаковых условиях, но те, кто распутывал предложения,
связанные с пенсионерами и Флоридой, ковыляли медленнее, чем
прочие.
В
другом исследовании изучали людей, участвующих в викторине. Те, кого
настраивали такими словами, как профессор, интеллигент, обыграли тех,
кого поощряли менее возвышенными выражениями: хулиган, тупица. Точно
так же и все подначки, которые практикуют игроки в баскетболе, наверняка более
эффективны, чем мы это воображаем.
На
первый взгляд эти исследования могут показаться просто забавой – глупыми
экспериментами для зверюшек на людях, – но в настоящей жизни влияние прайминга[10] может быть очень
серьезным. Например, прайминг может вести к тому, что группы меньшинств
добиваются меньших результатов, когда культурные стереотипы проявляются
особенно явно, и при прочих равных условиях негативные расовые стереотипы имеют
тенденцию автоматически закрепляться даже у самых благонамеренных людей,
которые утверждают, что одинаково относятся к белым и чернокожим.
Контекстуально зависимый характер памяти может способствовать и тому, что люди
в подавленном состоянии ищут депрессивные формы активности, такие как выпивка
или прослушивание песен об утраченной любви, которые еще больше нагоняют на них
тоску. Какая уж тут теория разумного замысла!
Закрепление
наших воспоминаний на основе контекста и подсказок, а не строго определенных
мест ведет еще к одной проблеме: воспоминания часто размываются и сливаются
вместе. В первом случае это означает: то, что я усвоил, теперь может легко
смешиваться с тем, что я знал раньше, – сегодняшний клубничный йогурт может
заслонить вчерашний малиновый. И наоборот, то, что я знаю или знал когда-то,
может путаться с чем-то новым, как в моей истории с Рейчел, сменившей фамилию.
В
конечном счете эта путаница может привести и кое к чему похуже: к ложным
воспоминаниям. Первые научные свидетельства, показывающие подверженность человека
ложным воспоминаниям, появились в ныне широко известном исследовании. Человека
просили запомнить несколько изображений со случайно расположенными точками, как
на следующих рисунках:

Позже
исследователи показывали различные картинки с точками одним и тем же испытуемым
и спрашивали, видели ли они их раньше. Обычно изображение, которое идет ниже,
вводило людей в заблуждение. Они восклицали, что видели его, хотя на самом деле
это был новый образец, своего рода смесь из тех, что они видели раньше.

Теперь
мы знаем, что такой «ложный сигнал» – обычное явление. Попытайтесь, например,
запомнить следующий набор слов: кровать, отдых, пробуждение, усталость, сон,
бодрствование, пустой, сонливость, бездеятельность, храп, вздремнуть, мир,
зевота, апатичный, сиделка, болезненный, адвокат, лекарство, здоровье,
больница, дантист, врач, больной, пациент, офис, стетоскоп, операция, клиника,
лечение.
Если
вы обычный человек, то, скорее всего, запомните категории слов, которые я
просил вас выучить, но наверняка увязнете в деталях. Вы вспомните слова сон или
спать (оба или ни одного?), полусонный или усталый (оба
или ни одного)? Как насчет доктора или дантиста? То же самое
относится даже к так называемым вспышкам памяти, когда выхватываются особенно
важные события, такие как 11 сентября или падение Берлинской стены. По мере
того как время проходит, становится все труднее сохранять в памяти точную
информацию, хотя мы продолжаем пребывать в полной уверенности, что она
правильная. К сожалению, уверенность не отражает ее точности.
Для
большинства биологических видов обычно достаточно запомнить суть, а не детали.
Если вы бобер, вы должны знать, как строить плотины, но вам нет нужды помнить,
где находится каждое ответвление. В целом в ходе эволюции плюсы и минусы
контекстуально зависимой памяти компенсируют друг друга: быстрая в главном,
бедная на детали; да будет так.
Тем
не менее, если вы человек, тут часто бывает по-другому; общество и
обстоятельства иногда требуют от нас точности, в которой не нуждались наши
предшественники. В суде, например, недостаточно знать, что какой-то парень совершил
преступление; мы должны знать, какой именно парень сделал это, – а это
часто оказывается не под силу памяти среднего человека. Тем не менее до
недавнего времени, когда стали использовать данные ДНК, свидетельские показания
часто рассматривались как последнее средство в судебном разбирательстве; когда
очевидец кажется внушающим доверие, судьи обычно предполагают, что человек
говорит правду.
Такое
доверие совершенно неуместно, и не потому, что честные люди лгут, а потому, что
даже самый благородный свидетель всего лишь человек, наделенный контекстуально
зависимой памятью. Несметное количество свидетельств тому дают исследования
психолога Элизабет Лофтус. В типовом исследовании Лофтус показывает испытуемым
фильм с дорожным происшествием и после этого спрашивает их, что произошло.
Полная путаница и искажения. Например, в одном эксперименте Лофтус показала
людям слайды машины, едущей на красный свет. Испытуемые, которые позже слышали
о знаке «уступи дорогу», часто путали то, что они видели, с тем, что слышали, и
ошибочно запоминали машину так, будто она ехала на знак «уступи дорогу», а не
на красный свет.
В
другом эксперименте Лофтус задавала разным группам испытуемых (все они видели
фильмы о разных ДТП) немного отличающиеся друг от друга вопросы, например: «С
какой скоростью ехали машины, когда столкнулись?» или «С какой скоростью ехали
машины, когда врезались друг в друга?» Все они различались только последним
глаголом (столкнулись, врезались, задели друг друга и т. п.). Тем не
менее этой легкой разницы в словах было достаточно для того, чтобы повлиять на
воспоминания людей: те, кто слышал такие слова, как врезались, оценивали
скорость при ДТП как 65 км/час, что было существенно больше, чем оценки тех,
кто слышал слово с более мягкими коннотациями, такими как столкнулись,
задели друг друга (51 км/час). Слово врезались дает памяти иной
сигнал, чем слово столкнулись, и тем самым влияет на оценку.
И
те и другие исследования подтверждают истину, известную большинству адвокатов:
свидетеля можно направлять наводящими вопросами. Кроме того, эти исследования
со всей очевидностью показывают, насколько ненадежной бывает человеческая
память. Судя по всему, этот пример актуален и за пределами лабораторий. Одно
недавнее исследование, правда небольшое, в реальной обстановке касалось людей,
которые были осуждены по ошибке (и впоследствии оправданы на основании анализов
ДНК). В 90% случаев эти приговоры были следствием ошибочных свидетельских
показаний.
Если
рассмотреть эволюционные истоки памяти, мы сможем разобраться в этой проблеме.
Свидетельские показания ненадежны, поскольку наши воспоминания фрагментарны;
нет надлежащей системы их хранения; на эффективность их поиска влияет контекст.
Рассчитывать на то, что человеческая память будет иметь точность видеозаписи
(что часто делают судьи), совершенно нереалистично. Воспоминания, связанные с
ДТП и преступлениями, как и все другие воспоминания, подвержены искажениям.
Знаменитая
строка из романа Джорджа Оруэлла «1984» гласит: «Океания всегда воевала с
Евразией» – ирония здесь в том, что до недавнего времени (в рамках книги)
Океания не воевала с Евразией. («Уинстон прекрасно знал, что на самом деле
Океания воюет с Евразией и дружит с Остазией всего четыре года».) Диктаторы из
«1984» манипулируют массами, пересматривая историю. Эта идея, конечно, очень
важна для книги, но, когда я читал это как усердный школьник, я находил все это
несуразным: разве люди не помнят, что линии фронта лишь недавно
перерисовали? Кто кого обманывает?
Теперь
я понимаю, что причудливая метафора Оруэлла была не такой уж надуманной. Все
воспоминания – и даже те, что касаются нашей собственной истории, – постоянно
пересматриваются. Всякий раз, когда мы получаем доступ к нашей памяти, она
становится «шаткой», зависящей от перемен, и это справедливо даже для
воспоминаний, которые кажутся особенно важными и твердо закрепившимися, такими
как политические события, происходившие на наших глазах.
Прекрасная
документально подтвержденная иллюстрация степени уязвимости нашей
автобиографической памяти была получена в 1992 году. Неуемный Росс Перо,
мятежный миллиардер из Техаса, вступил в президентскую гонку в качестве
независимого кандидата, поначалу он привлек приверженцев, но неожиданно под
градом нападок снял свою кандидатуру. В тот момент психолог Линда Ливайн
опрашивала последователей Перо, как они воспринимают прекращение его кампании.
Когда позже Перо снова включился в гонку, Ливайн получила непредвиденный шанс
собрать дополнительные данные. Вскоре после дня выборов Ливайн опросила
избирателей, за кого они голосовали в итоге и как они воспринимали Перо раньше
во время кампании, в тот момент, когда он вышел из игры. Ливайн обнаружила, что
воспоминания о своих собственных ощущениях у людей изменились. Те, кто
пошли за Перо, когда Перо вернулся, были склонны не помнить своих негативных
эмоций из-за его отказа, забыв о том, как тогда чувствовали себя преданными. В
то же время люди, которые отошли от Перо и в конечном итоге проголосовали за
другого кандидата, отодвинули свои положительные воспоминания о нем, словно
никогда и не собирались голосовать за него. Оруэлл мог бы гордиться.[11]
Искажения
и взаимовлияние воспоминаний – это всего лишь верхушка айсберга. Муха легко
может превратиться в слона, если эволюция наградила нас памятью почтового
адреса. Возьмите, например, казалось бы, тривиальную задачу: вспомните, куда вы
положили ключи от дома. Девять раз из десяти вы решите ее правильно, но, если
вы оставите ключи в необычном месте, результат будет обратный. Инженер просто
соотнес бы определенное место (известное как «буфер») с географическими
координатами ваших ключей, обновлял бы параметры, когда и куда бы вы их ни
перемещали, и вуаля: вам никогда не приходилось бы шарить по карманам брюк,
которые вы надевали вчера, или сидеть в запертом доме.
Увы,
именно потому, что мы не можем добраться до памяти по точному местоположению,
мы не можем обновить данные конкретной памяти и не можем «стереть» информацию о
том, куда мы клали ключи в прошлом. Если мы положим их не туда, куда обычно,
новизна вступит в конфликт с частотой, и мы с легкостью забудем, где ключи. Та
же проблема возникает, когда мы пытаемся вспомнить, где оставили машину,
кошелек или телефон; это просто часть нашей человеческой жизни. Не имея нужных
буферов, наша база данных памяти уподобляется обувной коробке, бессистемно
набитой фотографиями: более свежие фотографии, скорее всего, окажутся наверху,
но это не гарантировано. Эта система обувной коробки хороша, когда нам нужно
помнить самое главное (скажем, надежные источники продовольствия) – в этом
случае годится любой опыт, получен он вчера или год назад. Но это
отвратительная система для запоминания точной информации.
Конфликт
новизны с частотой объясняет почти повальную забывчивость, когда мы уходим с работы
с намерением заехать в продовольственный магазин, чтобы вместо этого с ветерком
промчаться мимо него до самого дома. Такое типичное поведение (проехать мимо
магазина) отменяет последнюю цель (купить по просьбе жены молока).
Предотвратить
такого рода когнитивный автопилот было бы легко. Как скажет любой ученый
компьютерщик, поездка домой и визит в магазин – цели, а цели выстраивают по
очереди. Компьютер делает что-то, потом пользователь нажимает кнопку, и
первая цель (аналог поездки домой) временно откладывается в пользу новой цели
(заскочить в магазин); новая цель оказывается первой в очереди (становится
главным приоритетом), пока после ее достижения она не будет вычеркнута из
списка и первой окажется старая цель. Любое количество целей можно ставить в
правильной последовательности. Но такое счастье не для нас!
Или
возьмем другой каприз человеческой памяти: наша память на то, что случилось,
редко соответствует тому, когда это случилось. Если компьютеры и
видеозаписи могут фиксировать события с точностью до секунды (когда был записан
конкретный фильм или изменен конкретный файл), то для нас удача – уже хотя бы
просто догадаться, в каком году произошло то или иное событие, даже если о нем
месяцами писали во всех газетах. Большинство людей моего возраста, например,
несколько лет назад неоднократно слышали ужасающую историю о двух олимпийских
фигуристах; бывший муж одной фигуристки нанял бандита, чтобы тот ударил другую
фигуристку по колену, лишив тем самым шанса на медаль. Такие истории пресса
обожает, и в течение полугода повсюду только и слышно было об этом. Но если
сегодня я спрошу обычного человека, когда это случилось, подозреваю, он с
трудом припомнит год, не говоря уже о месяце.[12]
Применительно
к тому, что случилось недавно, мы можем обойти проблему, руководствуясь здравым
смыслом: чем более недавнее событие, тем лучше мы его помним. Но здесь есть
свои ограничения. События давностью более двух месяцев начинают размываться в
нашей памяти, что обычно затрудняет наши попытки восстановить их хронологию. Например,
когда постоянных зрителей еженедельной новостной программы 60 минут попросили
вспомнить последовательность сюжетов в эфире, они смогли легко различить
истории, показанные два месяца назад, и те, что были на экране на прошлой
неделе. Но сюжеты, представленные в более далеком прошлом – скажем, два года
назад в сравнении с четырьмя, – были для них хронологически неразличимы.
Конечно,
всегда есть выход. Вместо того чтобы просто пытаться вспомнить, когда что-то
произошло, мы можем восстановить логику событий. С помощью процесса, известного
как «реконструкция», мы восстанавливаем прошлое, коррелируя событие с
неопределенной датой с хронологическими ориентирами, в которых не сомневаемся.
Если взять еще один пример новостных событий и я попрошу вас назвать год, когда
О. Джей Симпсон был обвинен в убийстве, вы, наверное, сумеете прикинуть дату.
Картина судебного разбирательства, такая яркая когда-то, теперь (для меня, по
крайней мере) начинает меркнуть. Если вы не фанат, вы, вероятно, не вспомните
точно, когда был суд. Зато вы можете порассуждать, что это было перед скандалом
с Моникой Левински, но уже после того, как Клинтон стал президентом, или что
это случилось до того, как вы встретили свою вторую половину, но после того,
как окончили колледж. Реконструкция, безусловно, лучше, чем ничего, но в
сравнении с простым штемпелем с датой и временем она невероятно примитивна.
Похожая
проблема – попытка вспомнить шестой вопрос, который должен задать каждый
репортер. Не кто, что, когда, где или почему, но каков источник,
например: Откуда мне это известно? Каковы мои источники? Где я видел ту
устрашающую статью о желании администрации Буша оккупировать Иран? Было это в
New Yorker? Или в Economist? Или в каком-то паранойяльном, но забавном блоге? По
понятным причинам когнитивные психологи называют этот сорт памяти «памятью на
источники». И память на источники, так же, как и наша память на времена и даты,
за неимением почтового адреса, часто бывает чрезвычайно убогой. Один психолог,
например, попросил группу испытуемых прочитать вслух список случайных имен
(например, Себастьян Вайсдорф). Спустя 24 часа он попросил их прочитать второй
список имен и определить, какие из них принадлежат знаменитым людям, а какие
нет. Некоторые имена и в самом деле принадлежали звездам, а некоторые были
вымышленные; интересно, что часть вымышленных имен взяли из первого списка. Если
у людей была хорошая память на источники, они замечали эту хитрость. Но
большинство людей догадывались, что видели это имя раньше, но не помнили, где
именно. Узнав имя того же, скажем, Себастьяна Вайсдорфа, но не вспомнив, где
они с ним сталкивались, люди ошибочно относили его к прославленным персонам,
правда, не знали, чем именно он знаменит. То же самое происходит, когда
избиратели забывают, слышали они историю Леттермана от кого-то или
читали в New York Times.
Приемы,
с помощью которых мы «реконструируем» память на даты и время, всего лишь один
пример из множества неуклюжих техник, используемых людьми, чтобы справиться с
отсутствием адресной памяти. Если вы наберете в Google слова «приемы
запоминания» (memory tricks), вы найдете десятки других.
Возьмем,
к примеру, древний «метод местоположения». Если у вас есть длинный список слов,
которые нужно запомнить, вы можете ассоциировать каждое из них с конкретной
комнатой в знакомом большом здании: первое слово с вестибюлем, второе с
гостиной, третье со столовой, четвертое с кухней и т.д. Этот прием,
используемый в той или иной форме всеми ведущими мнемонистами мира, работает
весьма успешно, поскольку каждая комната обеспечивает свой контекст для
вспоминания, но это все-таки паллиативная мера, а не радикальное средство
помощи.
Еще
один классический подход, бросающийся в глаза в рэп-музыке, – это использование
ритма и размера для запоминания. У Гомера был гекзаметр, у Тома Лерера – песня
«Элементы» (о периодической системе элементов Менделеева), а у группы They
Might Be Giants – песня «Почему светит солнце».
Мнемонические
приемы часто используют и актеры. Они не только напоминают себе следующие
строки, используя подсказки ритма, размера, рифмы; они фокусируются на
мотивации и поступках своих персонажей, на их характерах. В идеале это
происходит автоматически. Как сказал актер Майкл Кейн, цель состоит в том,
чтобы полностью погрузиться в историю, а не думать о конкретных строках. «Вы
должны уметь не думать о словах. Вы считываете их с лица другого актера».
Некоторым исполнителям это удается достаточно хорошо; другие мучаются (или
полагаются на шпаргалки). Так или иначе, запоминание текста никогда не будет
для нас таким простым, как для компьютера. Мы восстанавливаем усвоенную
информацию не посредством чтения файлов, которые находятся в конкретном месте
на жестком диске, а опираясь на всевозможные подсказки и надеясь на лучшее.
Даже
старое доброе средство – простое заучивание, повторение одного и того же снова
и снова – тоже в своем роде нелепость, без которой куда лучше было бы
обходиться. Механическое запоминание срабатывает, поскольку здесь задействована
способность мозга удерживать в памяти часто повторяющиеся события, но едва ли
это решение можно назвать изящным. Идеальная система памяти должна схватывать
информацию с первого раза, так чтобы мы не тратили время на флеш-карты и долгую
работу по запоминанию. (Да, я слышал, что бывает фотографическая память, но
никогда не встречался с документально подтвержденными случаями.)
Нет
ничего плохого в мнемонике, и ее возможности беспредельны; любые подсказки
полезны. Но если они проваливаются, мы можем полагаться на разного рода решения
– организуя нашу жизнь так, чтобы приспособиться к ограничениям памяти. Я,
например, усвоил на опыте, что единственный способ справляться с моей
врожденной плохой памятью – это развивать привычки, которые уменьшают
требования к моей памяти. Я всегда кладу ключи в одно и то же место, кладу то,
что мне нужно взять с собой на работу, прямо перед дверью и т.д. Для такого
забывчивого человека, как я, карманный компьютер – дар Божий. Но если мы
способны находить выход из положения, это не означает, что наши ментальные
механизмы хорошо сконструированы. Это противоположный симптом. Именно
несовершенство человеческой памяти в первую очередь заставляет придумывать
обходные маневры.
Учитывая
особенности нашей контекстуальной памяти, естественно задать вопрос,
перевешивают ли ее достоинства (скорость, например) ее недостатки. Я думаю,
нет, и не просто потому, что издержки велики, а потому, что в принципе можно
иметь выгоды и без издержек. Доказательство тому – Google, не говоря уже о
десятках других поисковых систем. Поисковые системы строят контекстуальную память
на фундаменте памяти почтового адреса (хорошо структурированной доступной
информации). Фундамент почтового адреса гарантирует надежность, в то время как
контекст сверху подсказывает, какая информация, скорее всего, нужна в данный
момент. Если бы эволюция началась с системы организации памяти по
месту, бьюсь об заклад, преимущества были бы существенные. Но наши предки
никогда не достигали той части когнитивной горы; поскольку эволюция застряла на
контекстуальной памяти, она никогда не заходила так далеко, чтобы найти
существенно более высокий пик. В результате, когда мы нуждаемся в точных,
надежных воспоминаниях, все, что мы можем, – это имитировать их – с помощью
клуджа жалкого наложения памяти почтового адреса на основу, которая
по-настоящему не предусмотрена для этого.
В
конечном итоге без памяти мы ничего не добились бы; как писал когда-то Стефан
Пинкер: «В огромной степени наша память – это мы». Тем не менее память – это,
возможно, первородный грех нашего мозга. На ней столь многое строится, и
все-таки она остается, особенно в сравнении с компьютерной памятью, невероятно
ненадежной.
В
значительной степени это объясняется тем, что мы эволюционировали не как
компьютеры, а как деятели в исконном смысле слова: как организмы,
которые действуют, существа, которые воспринимают мир и делают что-то в ответ.
Во многих обстоятельствах, особенно требующих решительных ответных действий,
скорость и контекст – мощные инструменты для опосредованной памяти. Нашим
предкам, живущим исключительно сегодняшним днем (как практически все существа,
кроме людей, и живут до сих пор), быстрый доступ к соответствующей по контексту
памяти о недавних или частых событиях помогал искать пропитание или избегать
опасности. Точно так же крысе или обезьяне обычно достаточно помнить лишь относящуюся
к делу общую информацию. Проблем неправильной атрибуции или предвзятости при
даче свидетельских показаний у них просто нет.
Но
сегодня суды, работодатели и многие другие стороны повседневной жизни
предъявляют требования, с которыми наши доисторические предки сталкивались
редко, а для этого нужно помнить конкретные детали, например, куда мы в
последний раз положили наши ключи (а не куда мы обычно кладем их), куда делась
информация и кто и когда нам сказал то-то и то-то.
Наверняка
всегда будут люди, воспринимающие наши ограничения как достоинства. Специалист
в области памяти Генри Роудигер, например, считает, что ошибки памяти – это
цена, которую мы платим за способность делать умозаключения. Психолог из
Гарварда Дэн Шектер между тем доказывал, что раздробленность памяти готовит нас
к будущему: «Память, которая работает, восстанавливая картину прошлого по
частям, может лучше подходить для моделирования будущих событий, чем собрание
безупречных записей». Другая распространенная идея состоит в том, что для нас
самих лучше, что мы не помним определенных вещей и плохая память избавляет нас
от боли.
Эти
идеи на первый взгляд кажутся убедительными, но я не вижу никаких тому
подтверждений. Точка зрения, что дефекты человеческой памяти имеют свои
преимущества, не учитывает одного важного обстоятельства: обычно мы не можем
вспомнить вовсе не то, что хотели бы забыть. Можно вволю фантазировать на тему
оптимального состояния, когда мы помним только радости, как Дороти из
«Волшебника из страны Оз». Но правда состоит в том, что обычно мы не способны
подавить – вопреки мнению Фрейда – те воспоминания, которые считаем
болезненными, и не можем автоматически их забыть. Наши воспоминания не зависят
от того, хотим ли мы это помнить, а забываем мы отнюдь не то, что хотим забыть;
каждый ветеран войны или жертва холокоста подтвердит это. Что мы помним, а что
забываем, зависит от контекста, от частоты и отдаленности во времени, а никак
не от стремления достичь внутреннего покоя. Можно вообразить себе робота,
способного автоматически вычеркивать из памяти неприятные моменты, но люди
устроены иначе.
Точно
так же нет логической связи между способностью делать умозаключения и
памятью, склонной к ошибкам. В принципе, вполне можно иметь и точные записи
прошлых событий, и обладать способностью строить предположения относительно
будущего. Так работают, например, компьютерные системы прогнозирования погоды;
они экстраполируют будущее, исходя из надежных данных о прошлом. Снижение
качества их памяти не может улучшить их предсказания, скорее ухудшит. И нет
никаких свидетельств о том, что люди, особенно склонные к искажениям памяти,
счастливее остальных, или о том, что они логичнее мыслят или лучше
предсказывают будущее. Наоборот, есть свидетельства обратного, так как наличие
памяти выше среднего уровня сопровождается обычно лучшими умственными
способностями в целом.
Все
это не значит, что не существует форм компенсации. Мы можем, например,
развлекаться с тем, что Фрейд называл «свободой ассоциацией»; забавно следовать
по цепи воспоминаний, и можно это использовать в литературе и поэзии. Если
подобные занятия занимают вас и доставляют радость, наслаждайтесь! Но неужели
нам было бы лучше, если бы наша память была менее надежна и более склонна к
искажениям? Одно дело – сделать хорошую мину при плохой игре, а другое –
утверждать, что именно это и есть предел ваших мечтаний.
В
конечном счете то, что наша способность делать умозаключения строится на
быстрой, но ненадежной контекстуальной памяти, – не оптимальный компромисс. Это
просто факт истории: обходной путь, который позволяет нам делать умозаключения
при памяти, склонной к искажениям, поскольку это все, что дала нам эволюция.
Для того чтобы построить по-настоящему надежную память, соответствующую
требованиям сознательного мышления, эволюция должна была начать все сначала. И
при всей своей красоте и мощи именно на это она не способна.
3
Убеждения
Алиса
засмеялась. «Нет смысла и пытаться, – сказала она, – нельзя верить в небылицы».
«Я
полагаю, у тебя не слишком много опыта, – сказала Королева. – Когда я была
моложе, я имела обыкновение делать это по полчаса в день. Да что там говорить,
иногда я успевала поверить не менее чем в шесть небылиц еще до завтрака».
Льюис
Кэрролл. «Алиса в Стране чудес»
«Вы
нуждаетесь в том, чтобы люди любили вас, восхищались вами, но сами склонны
критиковать себя. Хотя у вас есть некоторые слабости, обычно вы умеете
справляться с ними. У вас есть значительные способности, которые вы
недостаточно используете в своих интересах. С виду вы организованны и
сдержанны, но в глубине души беспокойны и тревожны».
Интересно,
поверили бы вы мне, если бы я сказал, что написал это специально для вас? На
самом деле это компиляция гороскопов, составленная психологом Бертрамом
Форером. Идея Форера состояла в том, что, читая обтекаемые фразы, которые могут
относиться к кому угодно, мы склонны считать, что они написаны именно о
нас – даже если это отнюдь не так. Хуже всего то, что мы еще более склонны
попадать в такую ловушку, если подобные утешительные описания включают
несколько положительных черт. Телепроповедники и рекламные ролики завлекают нас
одним и тем же приемом, изо всех сил пытаясь создать впечатление, что они
обращаются к конкретному зрителю, а не к толпе. Как представители
биологического вида мы только и ждем, чтобы нас одурачили. В этой главе мы
разберемся, почему это так.
Способность
придерживаться ясных убеждений, которые мы можем обсуждать, оценивать,
осмысливать, как и язык, – недавние достижения эволюции – они
характерны для людей и редки или отсутствуют у других биологических видов.[13] А то, что
существует недавно, редко бывает отлажено как следует. В отличие от
объективного механизма обнаружения и кодирования слова «правда» по букве «П»,
наша человеческая способность к суждениям бессистемна, она складывалась в ходе
эволюции и зависит от эмоций, настроений, желаний, целей и просто личных
интересов и поразительно чувствительна к индивидуальным особенностям памяти.
Более того, эволюция оставила нас невероятно легковерными, а это
свидетельствует скорее о несовершенстве проекта, чем о его достоинствах. В
общем, хотя в основе нашей способности судить о чем-то лежат мощные системы, в
то же время мы подвластны предрассудкам, манипулированию и введению в
заблуждение. Это не так просто: наши убеждения и несовершенные инструменты
нервной системы, с помощью которых мы оцениваем их, могут приводить к семейным
конфликтам, религиозным спорам и даже к войнам.
В
принципе целесообразно, чтобы в условиях действующей системы представлений было
ясное понимание истоков этих представлений и того, насколько они соответствуют
реальности. Связано ли мое мнение, что Colgate – хороший бренд:
1) с моим анализом двойного слепого теста, проведенного и
опубликованного Consumer Reports, 2) с тем, что мне нравится реклама
Colgate, или 3) с моим собственным сравнением Colgate с другими
«ведущими брендами»? Хотелось бы иметь ответ на этот вопрос, но у меня его нет.
Поскольку
эволюция строила способность делать суждения преимущественно из наличных
компонентов, предназначенных изначально для других целей, мы часто не можем
восстановить в памяти истоки тех или иных представлений – если вообще
знали их – и, что еще хуже, часто мы совершенно не догадываемся о том,
насколько на нас влияет не относящаяся к вопросу информация.
Возьмем,
например, тот факт, что студенты выше оценивают уровень преподавания
профессоров, если те привлекательны внешне. Если человек вызывает у нас
положительные эмоции по одной причине, мы склонны автоматически приписывать ему
и другие хорошие качества, это явление в психологии называется эффектом ореола.
Справедливо и обратное: видишь одну отрицательную черту и уже ждешь от человека
только негатива. Было, например, такое неутешительное исследование, в котором
людям показывали изображения одного из двух детей, первый – симпатичный, а
второй – так себе. После этого испытуемым говорили, что один из них,
назовем его Джуниор, бросил в другого мальчика снежок, внутри которого был
камень; а после этого просили объяснить поведение мальчика. Люди, которые
видели несимпатичного мальчика, записывали Джуниора в головорезы, которого
следует отправить в исправительную школу; те, кому показывали более
симпатичного мальчика, делали более мягкие выводы, предполагая, например, что
просто у Джуниора был «неудачный день». Одно за другим исследования показывали,
что привлекательные люди лучше проходили собеседования при приеме на работу,
учебу и т.д. Все это показывает, как эстетика создает помехи в каналах
формирования представлений.
Точно
так же мы часто голосуем за кандидатов, которые (физически) «выглядят более
компетентными» в сравнении с остальными. И, как прекрасно знают рекламисты, все
мы охотнее покупаем пиво определенной марки, если видим, как его пьет
симпатичная особа, и с большей вероятностью купим кроссовки, если видим, что их
носит успешный спортсмен Майкл Джордан. И хотя, может быть, иррационально для
многих подростков покупать одни и те же кроссовки, чтобы «быть, как Майкл
Джордан», зато для компании Nike вполне рационально тратить миллионы долларов
на покровительство со стороны Его Воздушества. Особенно шокирует недавнее
исследование, где дети трех-пяти лет оценивали продукты – морковь, молоко,
яблочный сок – выше, если они были в упаковке от Макдоналда. Книги и
обложки, морковь и пластиковая упаковка. Мы рождены, чтобы нас водили за нос.
Эффект
ореола (и его дьявольская противоположность) в действительности всего лишь
частный случай более общего явления: почти все, что попадает в орбиту нашего
сознания, даже случайное слово, может повлиять на то, как мы воспринимаем мир и
во что верим. Что произойдет, например, если я попрошу вас запомнить такой
набор слов: мебель, самоуверенный, угол, авантюрный, стул, стол, независимый,
телевизор. (Удалось? Дальнейшее будет еще забавнее, если вы действительно
попытаетесь запомнить этот список.)
Теперь
прочитайте следующий отрывок о человеке по имени Дональд:
«Дональд проводил огромное количество времени
в поисках того, что его могло бы взволновать. Он покорил вершину Мак-Кинли,
сплавлялся по Колорадо на каяке, участвовал в гонках на выживание, управлял
реактивным судном, не слишком много зная о кораблях. Множество раз он мог быть
ранен или даже погибнуть. Теперь он находится в поисках нового приключения. Он
подумывает: то ли заняться затяжными прыжками с парашютом, то ли пересечь на
паруснике Атлантику.»
Чтобы
проверить, как вы поняли текст, я попрошу вас охарактеризовать Дональда одним
словом. И слово, которое придет вам в голову, это… (см. сноску)[14]. Если бы вы запоминали
немного другой список, например: мебель, самодовольный, угол, безрассудный,
стул, стол, равнодушный, телевизор, то первое слово, которое пришло бы вам в
голову, могло быть другим – не авантюрный, а безрассудный. Дональд может
быть с равным успехом и безрассудным, и авантюрным, но коннотация у каждого
слова своя, и люди выбирают ту характеристику, которая уже отложилась у них в
голове (в данном случае она хитроумно имплантирована списком, который они
запоминали). Это говорит о том, что на ваше впечатление о Дональде повлияла
информация (слова в списке для запоминания), вроде бы и не относившаяся к делу.
Другой
феномен, называемый «иллюзией фокусирования», показывает, насколько легко
манипулировать людьми, всего лишь переключая их внимание с одной информации на
другую. В одном простом, но красноречивом исследовании студентов колледжа
попросили ответить на два вопроса: «Насколько вы довольны своей жизнью в
целом?» и «Сколько свиданий у вас было в последний месяц?». Одна группа
студентов слушала вопросы именно в этой последовательности, а другая – в
обратной. В группе, прослушавшей сначала вопрос об удовлетворенности жизнью,
корреляции между ответами почти не наблюдалось; некоторые люди с меньшим числом
свиданий сообщали, что счастливы, некоторые люди с большим количеством свиданий
сообщали, что грустят. Однако достаточно было поменять вопросы местами, как
студенты начинали фокусироваться исключительно на любви и неожиданно
оказывались неспособными воспринимать счастье в отрыве от интимной жизни. Те, у
кого было много свиданий, считали себя довольными жизнью, а те, у кого
мало, – напротив. Вот так. Когда вопрос о свиданиях шел первым, оценки
опрошенных четко зависели от числа свиданий, которое у них было. Возможно, это
не удивляет вас, а могло бы, так как это показывает, насколько податливы наши
убеждения. Даже наше внутреннее восприятие самих себя зависит от того, на чем
мы сфокусированы в данный момент.
Резюме:
всякое убеждение пропускается через непредсказуемый фильтр контекстуальной
памяти. Либо мы вспоминаем представление, сложившееся у нас прежде, либо
выводим его из тех воспоминаний, которые всплыли в нашем мозгу.
Тем
не менее мало кто понимает, до какой степени наше представление о чем-то может
исказиться под влиянием капризов памяти. Возьмем студентов, которые слышали
первым вопрос о свиданиях. Предполагается, что, отвечая на вопрос о счастье,
они были настолько объективны, насколько могли; только студент, очень хорошо
знающий себя, мог сообразить, что ответ на второй вопрос может быть связан с
ответом на первый вопрос. Именно это и делает ментальную контаминацию столь
коварной. Наше субъективное впечатление, что мы объективны, редко соответствует
реальности: неважно, насколько мы пытаемся быть объективными, человеческие
представления, опосредованные памятью, неизбежно колеблются под влиянием
мелочей, которые мы лишь смутно осознаем.
С
инженерной точки зрения люди могли бы быть куда лучше сконструированы, если бы
эволюция снабдила нашу контекстуальную память механизмом систематического
поиска запасов воспоминаний. Данные опроса более точны, если он проводится на
репрезентативном срезе населения, точно так же человеческие убеждения более
весомы, если они основаны на взвешенном наборе данных. Увы, эволюция не
догадывалась о статистических понятиях объективности примера.
Вместо
этого обычно мы считаем более важными либо самые последние воспоминания, либо
те, что быстрее приходят на ум. Рассмотрим, например, мой недавний опыт, когда
я ехал по загородному шоссе и думал, в какое время окажусь в следующем мотеле.
Когда дорога была свободной, я думал: «Ага, я еду по федеральной трассе со
скоростью 150 км/час, я буду там через час». Когда из-за дорожных работ я
двигался медленнее, я думал: «Нет, я доберусь до места часа через два».
Забавно, что я не рассуждал, исходя из средних значений: «Дорожная ситуация то
хуже, то лучше, по-видимому, так будет и дальше, следовательно, можно
поручиться, что дорога займет полтора часа».
Самые
обыденные, но чрезвычайно распространенные трения в отношениях людей по всему
миру связаны с тем же самым неумением соотнести наши представления с
реальностью. Когда мы пререкаемся с супругой или соседом по комнате по поводу
того, чья очередь мыть посуду, нам, вероятно (хотя мы и не отдаем себе отчета),
легче вспоминаются те случаи, когда мы сами заботились о них (а не когда они
делали что-то для нас); в конце концов, наша память организована так, что фокусируется
преимущественно на собственном опыте. Мы редко корректируем этот дисбаланс и
постепенно приходим к убеждению, что делаем больше работы в целом, и в конечном
итоге упиваемся чувством собственной правоты. Исследования показывают, что
практически в любом коллективном предприятии, от содержания дома до написания
академических трудов совместно с коллегами, сумма воспринимаемых каждым
участником собственных вкладов превышает общий результат выполненной работы. Мы
не можем помнить то, что делают другие люди, так же хорошо, как помним то, что
сделали сами, – в итоге все (даже те, кто уклоняется от работы!) остаются
с ощущением, что другие проехались за их счет. Понимание ограниченности нашей
собственной выборки данных может всех нас сделать более великодушными.
Ментальная
контаминация так сильна, что даже совершенно не имеющая отношения к делу
информация может «водить нас за нос». В одном пионерском эксперименте психологи
Амос Тверски и Даниэль Канеман крутили колесо фортуны с отметками от 1
до 100, а затем задавали испытуемым вопрос, никак не соотносящийся с
результатом поворота колеса: какой процент африканских стран входит в
состав ООН? Большинство участников не знали точного ответа, поэтому
пытались догадаться. Но на их оценки в значительной степени влияли цифры на
колесе. Когда колесо показывало 10, типичный ответ на вопрос был 25%,
в то время как когда колесо останавливалось на 65, то типичный ответ
был 45%.
Это
явление, известное как эффект «якоря и корректировки», возникает снова и снова.
Убедитесь сами. Прибавьте 400 к последним трем цифрам вашего мобильного
телефона. Сделав это, ответьте на вопрос: в каком году завершился поход Аттилы,
вождя гуннов, на Европу? Люди, чей телефонный номер плюс 400 давал
менее 600, называли в среднем 629 г. н.э., в то время как
люди, чей номер телефона плюс 400 давал от 1200 до 1399, называли
979 г. н.э., на 350 лет позже.[15]
Что
же такое происходит? Каким образом телефонный номер или оборот колеса фортуны
может повлиять на представления об исторических событиях или составе ООН?
В процессе привязки и корректировки люди начинают с какого-то произвольного
пункта и двигаются, пока не найдут ответ, который их устраивает. Если на колесе
выскакивает номер 10, они начинают спрашивать себя, возможно,
бессознательно: «Правдоподобно ли число 10 для ответа об ООН?» Если
нет, они продолжают, пока не найдут другое значение (скажем 25), которое
кажется верным. Если выпадет 65, они могут двинуться в противоположном
направлении: «Подходит ли для ответа 65? Или 55?» Беда в том, что
привязка к случайному пункту может наводить нас на ответы, которые едва ли
правдоподобны: низкий старт приводит к более низким из возможных вариантов
ответа, а начав с высоких значений, люди доходят до наиболее высоких из
правдоподобных чисел. Никакая стратегия не ведет людей к, казалось бы, самому
разумному ответу – к тому, что находится в середине шкалы возможных
ответов. Если вы думаете, что правильный ответ где-то между 25 и 45,
зачем говорить 25 или 45? Может быть, лучше назвать число 35, но
из-за якорного эффекта люди редко так поступают.[16]
Эффекту
якоря уделяется большое внимание в психологической литературе, но это ни в коем
случае не единственная иллюстрация того, как на убеждения и суждения могут
влиять попутная и даже не имеющая отношения к делу информация. Возьмем другой
пример. Люди, которых просили осторожно подержать между зубами ручку, не
касаясь ее губами, оценивали карикатуры как более забавные, чем те, кто держал
ручку со сжатыми губами. Почему так? Вы можете догадаться, если попробуете
следовать этим инструкциям, глядя на себя в зеркало. Держите ручку между зубами
«осторожно, не касаясь ее губами». Теперь посмотрите, какую форму принимает ваш
рот. Вы увидите, что уголки губ подняты, как при улыбке. Так поднятые уголки
губ благодаря механизму действия контекстуально зависимой памяти автоматически
вызывают приятные мысли.
В
аналогичной серии экспериментов испытуемых просили, используя недоминантную
руку (левую для правшей), с максимально возможной скоростью написать имена
знаменитостей, классифицируя их по категориям (нравится, не нравится,
нейтральное отношение). Они должны были делать это: 1) либо нажимая на
стол (сверху вниз) ладонью доминантной руки, 2) либо нажимая (снизу вверх)
ладонью доминантной руки на обратную сторону столешницы. Люди, чья ладонь была
обращена вверх, перечисляли больше имен положительных персонажей, а люди, чья
ладонь была обращена вниз, вспомнили больше негативных. Почему? Сама поза
человека с раскрытой ладонью подразумевает позитивный подход, в то как время
ладонь, обращенная вниз, соответствует позе осторожности. Как показывают
данные, такие легкие различия изо дня в день влияют на нашу память и в конечном
счете на наши убеждения.
Другой
источник контаминации связан со стереотипностью мышления, с человеческой
склонностью считать хорошим то, что хорошо знакомо. Возьмем, например,
любопытное явление, известное как эффект «простого знакомства»: если вы просите
людей оценить вещи как китайские иероглифы, они склонны предпочесть те, что
видели раньше, тем, которых не видели. Один мой коллега даже высказал
крамольную мысль, что известные произведения живописи могут нравиться людям
потому, что они знают их, наряду с тем, что они прекрасны.
С
точки зрения наших предков, предпочтение знакомого могло иметь смысл; то, что
знала еще прапрапрабабушка, и это не убило ее, вероятно, надежнее того, чего
она не знала – и что могло ее убить. Предпочтение того, что испытано на
практике, могло формироваться в ходе приспособления: те, кто выбирал все хорошо
знакомое, могли иметь большее потомство, чем индивиды с чрезмерной
предрасположенностью к новизне. Подобно этому наше стремление есть вкусную
пищу, предположительно наиболее знакомую нам, вероятно, сильнее проявлялось в
тяжелые времена; так что и здесь легко найти объяснение, связанное с приспособляемостью.
В
отношении эстетики нет ничего плохого в предпочтении привычного – на самом
деле не имеет значения, нравится мне этот китайский иероглиф или другой. Точно
так же, если моя любовь к музыке диско 1970-х годов обязана скорее тому,
что я знаю ее, а не музыкальному таланту Донны Саммер, ради бога.
Но
наша приверженность знакомому может стать и проблемой, особенно когда мы не
осознаем, до какой степени этот фактор влияет на наше предположительно
рациональное принятие решений. На самом деле последствия могут быть
значительными. Например, люди склонны предпочитать ту социальную политику,
которая уже осуществляется, той, которая не проводится, даже если нет
обоснованных данных, показывающих, что текущая политика эффективна. Вместо того
чтобы анализировать преимущества и недостатки, люди часто используют принцип
здравого смысла: «Раз это существует, значит, должно работать».
В
одном недавнем исследовании высказано предположение, что люди поступают так,
даже если понятия не имеют, какая политика на самом деле проводится. Группа
израильских исследователей решила воспользоваться тем, что люди мало знают о
многих указах и постановлениях. Настолько мало, что экспериментаторы легко
заставили опрашиваемых поверить в любые предположения; так, исследователи
проверили, насколько люди готовы принять на веру любую «правду», к которой их
подводят. Например, их попросили оценить порядки, такие, например, как
кормление бездомных кошек: хорошо это или неправомерно. Половине испытуемых
экспериментатор объяснил, что кормление уличных кошек в настоящее время
узаконено, а другой половине – что нет, а потом спрашивал людей, надо ли
менять законодательство. Большинство благосклонно относились к существующей
практике и готовы были найти множество доводов в пользу ее преимуществ над конкурирующей
политикой. Похожие результаты исследователи обнаружили и в эксперименте с
выдуманными правилами обучения декоративно-прикладному искусству. (Сколько
часов обучения должна подразумевать эта программа – пять или семь? В
настоящее время X.) Такая же приверженность знакомому характерна и для
реальной жизни, когда ставки выше. Это объясняет, почему кандидаты, занимающие
выборные должности на момент очередных выборов, всегда имеют преимущества.
Известно, что даже недавно скончавшиеся публичные политики побеждали живых
соперников.[17]
Чем
больше угроз нас подстерегает, тем более мы склонны цепляться за то, что нам
знакомо. Подумайте о тенденции питаться привычными продуктами. При прочих
равных условиях в случае опасности люди склонны больше, чем обычно, держаться
за своих близких, за свои корни, за свои ценности. Лабораторные исследования,
например, показали: если людям поставить задачу вообразить собственную смерть
(«Напишите как можно подробнее, что, как вы думаете, может происходить с вами в
случае вашей физической смерти…»), то они склонны более тепло, чем обычно,
относиться к представителям своих религиозных и этнических групп, но более
негативно к аутсайдерам. Страх смерти побуждает также поляризовать политические
и религиозные убеждения: у патриотичных американцев, осознававших свою
смертность, идея использовать американский флаг в качестве сита вызывает
больший ужас (в сравнении с патриотами контрольной группы); убежденные
христиане, которых просят поразмышлять на темы собственной смерти, проявляют меньшую
терпимость, если кто-то пользуется распятием в качестве молотка.
(Благотворители, обратите внимание: наши кошельки мы тоже открываем охотнее в
тот момент, когда нам случается задуматься о смерти.) Другое исследование
показало, что во времена кризисов все люди склонны становиться более
нетерпимыми к национальным меньшинствам; как ни странно, это относится не
только к представителям большинства, но и к самим меньшинствам.
Люди
могут даже приветствовать или по крайней мере принимать системы правления, которые
серьезно угрожают их собственным интересам. Как отмечал психолог Джон Джост:
«Многие люди, которые жили во времена феодализма, крестовых походов, рабства,
коммунизма, апартеида и Талибана, считали, что существующая система
несовершенна, но морально оправданна и [в чем-то даже] лучше, чем альтернативы,
которые они могут себе представить». Иначе говоря, ментальная
контаминация – дело серьезное.
Каждый
из этих примеров ментальной контаминации (иллюзия фокусирования, эффект ореола,
эффект якоря и корректировки, эффект простого знакомства) подчеркивает важное
различие, к которому мы будем постоянно возвращаться в этой книге. Наше
мышление условно можно разделить на два потока: один – быстрый,
автоматический, преимущественно бессознательный; а другой – медленный,
целенаправленный, сознательный.
Первый
поток, который я буду называть наследственной, атавистической или рефлексивной
системой, действует стремительно, автоматически, при наличии или при отсутствии
сознательной осведомленности. Второй поток я называю рассуждающей системой,
поскольку она делает следующее: размышляет, рассматривает, обдумывает
факты – и пытается (иногда успешно, иногда нет) спорить с ними.
Рефлексивная
система, безусловно, старше и обнаруживается в той или иной форме практически
во всех многоклеточных организмах. Она лежит в основе многих наших повседневных
действий, например, мы автоматически ставим ногу выше или ниже в соответствии с
рельефом местности, по которой идем, или мгновенно узнаем старого друга.
Рассуждающая система, которая сознательно рассматривает логику наших целей и
решений, гораздо новее, и обнаруживается у немногих видов, возможно, только у
людей.
В
лучшем случае мы можем сказать, что эти две системы опираются на достаточно
разные мозговые субстраты. Некоторые рефлексивные системы зависят от старых с
точки зрения эволюции систем мозга, таких как мозжечок, подкорковые нейронные
узлы (связанные с контролем моторики) и миндалины (отвечающие за эмоции).
Рассуждающая система между тем базируется, вероятно, преимущественно в переднем
мозге, в предлобной части коры головного мозга, которая есть – хотя и
намного меньше – и у других млекопитающих.
Я
описываю вторую систему как «рассуждающую», а не как, скажем, рациональную,
поскольку нет гарантии, что она будет рассуждать действительно рационально.
Хотя эта система в принципе может быть достаточно умной, она часто принимает на
веру не самые правильные рассуждения. В этом отношении кто-то может счесть, что
рассуждающая система напоминает Верховный суд: его решения не всегда могут казаться
здравыми, но намерения по крайней мере всегда благоразумные.
И
наоборот, рефлексивная система вовсе не должна быть по определению
иррациональной; просто она более недальновидна в сравнении с рассуждающей
системой, но едва ли она вообще существовала бы, если бы была совершенно
иррациональной. Большую часть времени она занимается тем, что ей удается
хорошо, даже если (по определению) ее решения не являются результатом
тщательного продумывания. Точно так же, хотя это может показаться
соблазнительным, я должен предостеречь от отождествления рефлексивной системы с
эмоциями. Несмотря на то что многие из них (страх, например), наверное,
рефлексивны, такие эмоции, как злорадство – удовольствие от страданий
соперника, – отнюдь нет. Вдобавок солидная часть рефлексивной системы едва
ли имеет отношение к эмоциям; как мы инстинктивно удерживаем равновесие,
споткнувшись на лестнице, так и наша рефлексивная система делает свое дело в
нашем спасении, но она может справляться с этим и без участия эмоций.
Рефлексивная система (на самом деле, вероятно, ряд систем) скорее связана не с
чувствами, а с мгновенными суждениями, основанными на опыте, эмоциональном или
каком-то ином.
Хотя
рассуждающая система сложнее и она наиболее поздняя в эволюционном процессе,
она никогда не обеспечивала должного контроля, поскольку основывает свои
решения почти всегда на вторичной информации, привилегии недостаточно
объективной атавистической системы. Мы можем сколько угодно рассуждать на эту
тему, но, как говорят компьютерщики, «мусор на входе, мусор на выходе». Нет
гарантии, что наследственная система обеспечит сбалансированный набор данных.
Еще хуже то, что, когда мы напряжены, устали или расстроены, первое, что нам
изменяет, – это наша рассуждающая система, оставляя нас на милость более
несовершенной рефлексивной системы – как раз тогда, когда мы можем
нуждаться в нашей рассуждающей системе больше всего.
Бессознательное
влияние нашей атавистической системы так сильно, что, когда наш разум пытается
взять под контроль ситуацию, усилия частенько оказываются напрасными. Например,
в одном исследовании испытуемых поставили в жесткие условия и попросили быстро
высказать свои суждения. Те, кому сказали (специально) подавлять сексистские
мысли (предположительно продукт наследственной рефлексивной системы), на самом
деле стали более подвержены им, чем контрольная группа. Еще страшнее то, что,
поскольку эволюция поместила здравый смысл на вершину контекстуально зависимой
памяти, она оставила нас с иллюзией объективности. Эволюция дала нам
инструменты для рассуждений и размышлений, но не дала никаких гарантий, что мы
сможем ими беспрепятственно воспользоваться. Мы чувствуем себя так, словно наши
убеждения основаны на холодных, твердых фактах, но часто их незаметно для нас
самих формирует наследственная система.
Неважно,
что мы думаем об этом, мы склонны уделять больше внимания тому, что согласуется
с нашими представлениями, чем тому, что идет вразрез с нашими представлениями.
Психологи называют это «склонностью к подтверждению». Когда мы придерживаемся
какой-либо теории – большой или малой, мы склонны скорее замечать
свидетельства, подтверждающие ее, чем данные, опровергающие ее.
Вспомним
квазиастрологическое описание, с которого начиналась эта глава. Человек,
который хочет верить в астрологию, может замечать в этом описании то, что
кажется правдой («вы нуждаетесь в том, чтобы люди любили вас, восхищались
вами»), и игнорировать обратное (возможно, со стороны вы не кажетесь таким уж
дисциплинированным). Человек, который хочет верить в гороскопы, может один раз
заметить совпадение и тысячу раз проигнорировать (или объяснить) туманные слова
гороскопа, из которых ничего не следует. Это и есть склонность к подтверждению.
Возьмем,
например, ранние эксперименты британского психолога Питера Уэйсона. Уэйсон
представил испытуемым три разных числа (например, 2-4-6) и попросил их
догадаться, какая закономерность стоит за их порядком. Испытуемых попросили
создать новую последовательность, подтверждающую правило. В большинстве случаев
испытуемый называл «4-6-8», ему говорили «да», он продолжал «8-10-12», ему
снова говорили «да», из чего он мог заключить, что закономерность состоит в
«последовательности из трех чисел, когда каждый раз добавляется два». Однако
никто не рассматривал потенциально не подтверждающие данные. Например,
правильна ли такая последовательность: 1-3-5? Или такая: 1-3-4? Мало
кто задавался этим вопросом; в результате мало кто догадался, что на самом деле
закономерность подразумевала просто «любую последовательность из трех
возрастающих чисел». Обобщим сказанное: люди часто ищут случаи, подтверждающие
их теорию, вместо того, чтобы попытаться выяснить, нет ли более подходящего
альтернативного принципа.
В
другом, более позднем и более жестком исследовании, двум группам показывали
видеозапись ребенка, сдающего экзамен. Одну группу наблюдателей настроили на
то, что это ребенок из привилегированной семьи, другую – что он из
необеспеченной семьи. Те, кто считал ребенка благополучным, говорили, что он
все делает хорошо и его успеваемость выше средней; другая группа предполагала,
что его ответы ниже требуемого уровня.
Склонность
к подтверждению может быть неизбежным следствием контекстуально обусловленной
памяти. Поскольку мы извлекаем воспоминания не посредством систематического
поиска релевантных данных (как это делает компьютер), а выбираем то, что
подходит, мы не можем придумать ничего лучше, чем замечать то, что подтверждает
наши изначальные представления. Вспомним судебный процесс над
О. Дж. Симпсоном. Если бы вы были настроены заранее на то, что он виновен
в убийстве, вам было бы легче найти свидетельства его вины (мотив,
анализ ДНК, отсутствие других подозреваемых), а не доводы, подвергающие
это сомнению (плохая работа полиции и компрометирующая его перчатка, которая не
подошла).
Для
того чтобы разобраться в чем-то как следует, надо оценить аргументы обеих
сторон. Но, не приложив дополнительных усилий и не заставив себя сознательно
рассмотреть альтернативы – а не то, что всплывает само по себе, – мы
склонны скорее вспоминать свидетельства, которые согласуются с устраивающим нас
предположением, чем с данными, которые идут вразрез с ними. И поскольку мы
лучше всего помним информацию, соответствующую нашему мнению, от нее очень
трудно абстрагироваться, даже когда она ошибочная.
То
же самое, естественно, относится и ученым. Цель науки заключается в поиске
взвешенного подхода к явлениям, но ученые – люди, и, как все люди,
способны замечать то, что подтверждает их теории. Почитайте любые научные
тексты, и вы увидите не только гениальность, но и такие идеи, которые при ретроспективном
взгляде кажутся бредом, – плоская земля, алхимия и т.д. История
не знает снисхождения к тем ученым, которые верили в подобные выдумки, но
реалист способен признать, что при контекстуально зависимой памяти подобные
глупости всегда возможны.
В
1913 году Элинор Портер написала одну из наиболее важных детских книг
XX столетия «Полианна»: историю девочки, которая видела светлые стороны
любой ситуации. Со временем имя Полианны стало использоваться в двух разных
коннотациях. Его употребляют в положительном смысле для описания неизбывного
оптимизма и в отрицательном – для характеристики оптимизма, граничащего с
глупостью. Возможно, Полианна была вымышленным персонажем, но в каждом из нас
есть немного от нее – склонность воспринимать мир позитивно, что может
соответствовать действительности, а может и нет. Генералы и президенты
ввязываются в войны, которые нельзя выиграть, ученые отстаивают свои любимые
теории еще долго после того, как неопровержимые факты свидетельствуют против
них.
Рассмотрим
исследование, которое провела Зива Кунда. Группа испытуемых входит в
лабораторию. Им предлагают участвовать в игровой викторине; но прежде, чем игра
начинается, им дают возможность посмотреть на тех, кто будет играть либо с ними
в команде (половина участников слышит это), либо в команде противника (это
говорят второй половине). Для тех, кто не знает предмета, результаты
подтасовываются; люди, за которыми наблюдают, играют прекрасно, отвечая на
каждый вопрос правильно. Исследователи хотят знать, все ли испытуемые впечатлены
игрой. Результат совершенно в духе Полианны: люди, которые предположительно
будут играть в команде с хорошими игроками, впечатлены; классные ребята, думают
они. Люди, которые ждут, что будут играть против них, настроены иначе; они
относят удачные ответы скорее к удаче, чем к подготовленности игроков. Одни и
те же данные и разная интерпретация: обе группы испытуемых наблюдают за чьей-то
отличной игрой, но какие выводы они вынесут из своих наблюдений, зависит от
роли, которую, как они ожидают, этот человек сыграет в их жизни.
В
подобном исследовании группа студентов колледжа смотрела видео, где беседовали
три человека; их попросили оценить, насколько симпатичны эти люди. При этом еще
до просмотра видео испытуемым сказали, что с одним из этих людей (выбираемых
наугад для каждого участника эксперимента) им предстоит встреча. Как и
следовало ожидать, испытуемые давали наивысшие оценки тем людям, с которыми,
как им сказали, им предстоит встретиться, – очередная иллюстрация того,
как легко наши представления (в данном случае о привлекательности человека)
могут меняться в зависимости от того, во что мы хотим верить. В любимом мною в
детстве мюзикле Гарри Нильсона «The Point!» есть такие слова: «Ты видишь
то, что хочешь видеть, и слышишь то, что хочешь слышать».
Наша
склонность менее тщательно проверять то, во что мы желаем верить (то, в чем
заинтересованы), в сравнении с тем, во что не хотим верить, называется
склонностью к «мотивированным умозаключениям», это своего рода побочный продукт
поиска подтверждений. Если склонность к подтверждению естественно вытекает из
нашего стремления замечать данные, соответствующие нашим представлениям, то
мотивированное умозаключение – это побочная тенденция, подразумевающая
более тщательную проверку тех идей, которые нам не нравятся, по сравнению с
теми, которые нас устраивают. Возьмите, например, исследование, в котором Кунда
попросила испытуемых, половина из них были мужчины, половина – женщины,
прочитать статью о вреде кофеина для женщин. В полном соответствии с идеей, что
на наши представления – и умозаключения – влияют наши мотивы,
женщины, которые пили много кофе, чаще были склонны сомневаться в этом выводе,
чем женщины, которые пили кофе меньше. В то же время на мужчин, которые
считали, что им ничего не грозит, подобный эффект не распространялся.
То
же самое постоянно происходит и в реальном мире. На самом деле одна из первых
научных иллюстраций мотивированных умозаключений была получена не в
лабораторном эксперименте, а в полевом исследовании 1964 года, вскоре
после того, как в печати появилось предупреждение главного врача Службы
здравоохранения о связи курения с раком легких. Вывод о том, что курение
вызывает рак легких, едва ли сегодня кому-то покажется новостью, но в те дни
это была сенсация, широко обсуждаемая в прессе. Двое инициативных ученых
взялись интервьюировать людей, спрашивая их, как они оценивают вывод главного
врача. Как можно догадаться, курильщиков его отчет убедил меньше, чем
некурящих. Курящие выступали с целым рядом контраргументов: «множество курильщиков
живет долго» (что не совпадало с представленными статистическими данными);
«многое в жизни случайно» (отвлекающий маневр), «курение лучше переедания или
пьянства» (тоже не по делу); «лучше курить, чем нервничать»
(утверждение, которое не поддерживают никакие данные).
Реальность
такова, что мы просто не рождены для взвешенных суждений; даже студенты –
выпускники элитных университетов подвержены такой слабости. В одном известном
исследовании студентов Стэнфордского университета попросили оценить ряд исследований
об эффективности высшей меры наказания. Некоторые студенты изначально были
настроены в пользу смертной казни, а некоторые – против. Студенты охотно
находили изъяны в исследованиях, где ставились под сомнения их убеждения, но
легко пропускали серьезные недостатки в таких исследованиях, где делались
выводы, с которыми они заведомо были согласны.
Соедините
контаминацию представлений, склонность к подтверждению и мотивированные
умозаключения, и вы получите биологический вид, готовый поверить во что угодно.
На протяжении истории люди верили в то, что земля плоская (несмотря на
свидетельства противоположного), в привидения, в ведьм, в астрологию, в
благотворность самоистязания и кровопускания. По большей части эти верования
благополучно ушли в прошлое, но некоторые люди по-прежнему тратят кровно
заработанные деньги на эзотерическое чтиво и спиритические сеансы, и даже я сам
частенько замираю при виде черной кошки. Или возьмем пример из политики: через
полтора года после вторжения в Ирак в 2003 году, 58% людей,
голосовавших за Джорджа Буша, все еще верили, что в Ираке есть оружие массового
уничтожения, несмотря на свидетельства обратного.
И
потом, как сообщалось, сам президент Джордж Буш заявлял, что имел личный и
прямой контакт с Всевышним. И если судить по тому, что он был избран, это пошло
ему на пользу; согласно обзору 2007 года исследовательского центра Пью
63% американцев не хотят голосовать за кандидата, который не верит в Бога.
Таким
критикам, как Сэм Харрис (автор книги «Конец веры»), такое положение дел
кажется абсурдным:
«Чтобы увидеть, насколько наша культура…
пропитана иррациональностью… просто везде замените слово «Бог» именем вашего
любимого олимпийского бога. Представьте, как президент Буш изъясняется на
Национальном молитвенном завтраке: «За всем в жизни и в истории стоят служение
и цель, обусловленные справедливостью и Зевсом». Представьте в его речи перед
конгрессом (20 сентября 2001 года) такое предложение: «Свобода и
страх, правосудие и жестокость всегда находились в состоянии войны, и мы знаем,
что Аполлон не занимает нейтральное положение между ними».»
Религия
пользуется особым влиянием отчасти потому, что люди хотят, чтобы это было
правдой; среди всего прочего религия дает им чувство, что мир справедлив и
тяжкий труд вознаграждается. Такая вера обеспечивает чувство цели и
принадлежности как на уровне личности, так и в космическом масштабе; нет
сомнения, что желание верить дает и способность верить. Но все это не
объясняет, почему люди склонны к вере, несмотря на явное отсутствие прямых доказательств.[18] Поэтому мы должны
обратиться к факту, что эволюция оставила нам способность дурачить самих себя и
верить в то, во что мы хотим верить. (Если мы молимся и случается что-то
хорошее, мы замечаем это; если же ничего не происходит, мы не замечаем несовпадения.)
Без мотивированных умозаключений и склонности к подтверждению мир был бы
другим.
Как
можно видеть в опросе курильщиков, пристрастные суждения имеют как минимум одно
преимущество. Они помогают нам защищать свою самооценку. (Конечно, речь идет не
только о курильщиках; я видел ученых, которые во многом вели себя похоже,
отчаянно цепляясь за исследования, ставившие под сомнение то, во что они
верили.)
Беда
тут в том, что самообман часто ведет нас в ложном направлении. Когда мы дурачим
себя посредством мотивированных умозаключений, мы можем придерживаться ложных,
а то и бредовых убеждений. Они способны вести к социальным конфликтам (когда мы
решительно пренебрегаем взглядами других людей), к саморазрушению (когда
курильщики пренебрегают рисками из-за своей привычки) и к научной слепоте
(когда ученые отказываются признавать данные, идущие вразрез с их теориями).
Когда
люди во власти предаются мотивированным суждениям, пренебрегая важными
свидетельствами их собственных ошибок, результаты могут быть катастрофическими.
Так, вероятно, произошла одна из самых грандиозных ошибок современной военной
истории весной 1944 года, когда Гитлер по совету своего ведущего
фельдмаршала Герда фон Рундштедта решил защищать Кале, а не Нормандию,
несмотря на лоббирование генерала менее высокого ранга Эрвина Роммеля. Плохой
совет фон Рундштедта, порожденный стремлением не отступать от собственных
планов, стоил Гитлеру Франции, а возможно, и всего Западного фронта.[19]
Почему
существуют мотивированные суждения? Здесь дело не в эволюционной инерции, а
просто в отсутствии предвидения. В то время как эволюция наградила нас
способностью мыслить, она не удосужилась обеспечить нас мудростью: ничто не
заставляет нас быть беспристрастными, поскольку никто не предвидел опасности в
соединении мощных инструментов мышления с опасным искушением самообмана. В
результате, предоставив нам самим решать, насколько использовать наш механизм
сознательных умозаключений, эволюция дала нам свободу – к лучшему или к
худшему – быть настолько субъективными, насколько нам захочется.
Даже
если нам нечего особенно терять, то, что мы уже знаем – или думаем, что
знаем, – часто еще больше затуманивает нашу способность мыслить и
формировать новые представления. Возьмем, например, такую классическую форму
логического умозаключения, как силлогизм: дедуктивное умозаключение, состоящее
из большей посылки, меньшей посылки и вывода, как это выражено в строках:
Все люди смертны.
Сократ человек.
Следовательно, Сократ смертен.
Такая
логика ни у кого не вызывает вопросов; мы понимаем абстрактность формы и
понимаем, что это легко обобщить:
Все глорки – фрумы.
Скизер – глорк.
Значит, Скизер – фрум.
И
сразу же новый способ формирования представлений: возьмите то, что вы знаете
(меньшая и большая посылки), вставьте в дедуктивную схему (все X –
это Y, Q – это X, следовательно, Q – Y) и выведите новое
представление. Красота этой схемы состоит в том, что правильные посылки
посредством правил логики гарантированно ведут к правильным выводам.
Хорошо
то, что люди так или иначе способны делать подобное, но плохо, что без
достаточной подготовки мы не умеем делать это хорошо. Если способность
рассуждать логически – это продукт естественного отбора, это также и очень
недавняя адаптация к некоторым серьезным дефектам, которые тем не менее нужно
исправлять.
Рассмотрим,
например, силлогизм, который чуть-чуть, но принципиально отличается от
предыдущего:
Все живое нуждается в воде.
Розы нуждаются в воде.
Следовательно, розы живые.
Справедливо
ли данное утверждение? Фокус тут в логике, а не в выводе как таковом; мы и так
знаем, что розы живые. Вопрос в том, убедительна ли логика, следует ли вывод за
предпосылкой, как ночь следует за днем. Большинство считают это утверждение
убедительным. Но посмотрите внимательно: посылка, что все живое нуждается в
воде, не исключает того, что некоторые неживые объекты тоже нуждаются в воде.
Мой автомобильный аккумулятор, например.
Уязвимость
этого рассуждения становится очевидной, если я просто изменю слова:
Посылка 1 : Все насекомые нуждаются в
кислороде.
Посылка 2 : Мыши нуждаются в кислороде .
Вывод : Следовательно, мыши – насекомые.
По-настоящему
здравомыслящий человек сразу заметит, что рассуждения с розой и мышью следуют
одной и той же схеме (все X нуждаются в Y, Z нуждаются в Y,
следовательно, все Z – это X), и отклонит подобное умозаключение
как нелогичное. Но большинство из нас должны увидеть два неологизма рядом,
чтобы понять это. Слишком часто мы пренебрегаем тщательным анализом того, что
логично, в угоду нашим сложившимся представлениям.
Что
же здесь происходит? В системе, которая тщательно сконструирована, убеждения и
процесс логических умозаключений (которые вскоре превращаются в новые
представления) предположительно разделены нерушимой стеной; мы вроде бы
способны отличать то, чему есть прямые свидетельства, от того, к чему просто
пришли логически. Вместо этого в развитии человеческого сознания эволюция пошла
другим путем. Задолго до того, как люди начали оперировать категориями
формальной логики (такими, как силлогизмы), другие создания – от рыб до
жирафов, – вероятно, делали неформальные умозаключения автоматически без
особой рефлексии; если яблоки хороши для еды, то груши, вероятно, тоже.
Шимпанзе или горилла может прийти к такому предположению, даже не догадываясь,
что существует понятие умозаключения. Возможно, одна из причин, почему люди так
склонны путать то, что они знают, с тем, что они думают, состоит в том, что для
наших предков эти два понятия были едва различимы и многие выводы делались
автоматически, будучи частью представлений, а не самостоятельной рефлексивной
системой.
Способность
кодифицировать законы логики предположительно возникла лишь недавно, возможно,
после появления гомо сапиенс. И к этому времени представления и умозаключения
были слишком переплетены, чтобы допустить их полную отдельность в ежедневном
процессе мышления. Результат – это во многом клудж: убедительная система
сознательных суждений слишком часто затуманивается предрассудками или
сложившимися представлениями.
Исследования
мозга подтверждают это: люди оценивают силлогизмы, используя два разных участка
мозга: один – более тесно связанный с логикой и пространственной
ориентацией (двусторонний теменной), а другой – более связанный с
предшествующими представлениями (фронтальный височный). Первый (логический и
пространственный) требует усилий, последний запускается автоматически; получить
право на логику непросто.
На
самом деле истинная ясность суждений посредством логики, вероятно, вообще не
была результатом эволюции. Если людям удается быть рациональными с точки зрения
формальной логики, то это не потому, что мы устроены таким образом, а потому,
что мы умны достаточно, чтобы усвоить правила логики (и признать их
обоснованность, если их объяснили). В то время как все нормальные люди
овладевают языком, способность использовать формальную логику для того, чтобы
иметь и обдумывать свои представления, вероятно, обязана скорее культуре, чем
эволюции, т. е. становится возможной благодаря эволюции, но не
гарантируется ею. Формальные умозаключения, если считать, что они существуют,
похоже, представлены преимущественно в культурах с развитой письменностью, их
трудно обнаружить в культурах, где таковой нет. Русский психолог Александр
Луриа, например, в конце 1930-х годов отправился в горы Центральной Азии,
где предлагал местным жителям такой силлогизм: «В одном сибирском городе все
медведи белые. Ваш сосед поехал в тот город и увидел медведя. Какого цвета был
медведь, которого он увидел?» Его респонденты никак не могли понять это, их
типичный ответ был: «Откуда я знаю? Почему профессор не спросит соседа сам?»
Дальнейшие исследования в более поздние годы подтвердили этот пример;
представители народностей, не знающих письменности, обычно на подобных опросах
отвечают, опираясь на факты, которые им известны, и явно не способны увидеть абстрактные
логические отношения, интересующие экспериментатора.
Это
не означает, что представители таких общностей не способны освоить формальную
логику – по крайней мере дети обычно могут, – но это показывает, что
овладение абстрактной логикой не происходит само собой, как овладение языком. В
свою очередь это означает, что формальные инструменты рассуждений относительно
представлений осваиваются в той мере, в какой они эволюционируют, а не входят в
стандартное оборудование (как полагают защитники идеи, что человечество
изначально рационально).
Если
мы считаем что-то верным (по той или иной причине), мы часто придумываем новые
доводы, чтобы верить в это. Возьмем, например, исследование, которое я проводил
несколько лет назад. Половина испытуемых читала материалы исследования,
показывающего, что успешная борьба с пожаром соотносится с высоким показателем
способности идти на риск. Другая половина испытуемых читала противоположное: в
исследовании утверждалось, что успехи в тушении пожаров демонстрируют люди с негативной
корреляцией по показателю способности идти на риск, то есть рискованные люди
хуже боролись с огнем. После этого каждую группу делили еще раз. Часть
подгруппы просили изложить в письменной форме причины, по которым в прочитанном
ими исследовании получились такие результаты; других просто занимали рядом
сложных геометрических головоломок наподобие тех, какие бывают в тестах на
умственное развитие.
Потом,
как это часто практикуют социальные психологи, я перевернул все с головы на
ноги: «Исследование, которое вы читали в первой части эксперимента, было
фальшивкой. Исследователи, якобы изучавшие тушение пожаров, на самом деле
переиначили данные! Я хочу знать одно: что вы думаете на самом деле –
действительно ли тушение пожаров связано со склонностью к риску?»
Даже
после того, как я сказал людям, что первоначальное исследование было полной
ерундой, люди из тех подгрупп, где была возможность порассуждать (и дать свои
объяснения), продолжали верить в то, что прочли раньше. Короче говоря, если вы
дадите кому-то некоторый шанс описать причины верить во что-то, они примут на
веру то, что вы им предложите, даже если их первоначальные свидетельства будут
полностью опровергнуты. Рациональный человек, если он существует, будет верить
в правду, неизменно двигаясь от правильной посылки к правильному выводу.
Иррациональный человек, кустарный продукт эволюции, каковым он и является,
обычно двигается в противоположном направлении, начиная с вывода, а затем уже
выискивая причины верить в него.
С
моей точки зрения, убеждения складываются из трех фундаментальных компонентов:
способности запоминать (представления бесполезны, если они приходят и уходят,
не задерживаясь в голове), способности делать умозаключения (выводить новые
факты из старых, как это только что было показано) и способности – как это
ни странно – воспринимать .
Внешне
восприятие и убеждения могут казаться не связанными друг с другом. Восприятие
касается того, что мы видим, слышим, ощущаем на вкус, обоняем, чувствуем, тогда
как убеждения – это то, о чем мы знаем – или полагаем, что знаем. Но
с точки зрения эволюционной истории эти два понятия не такие разные, как это
может показаться. Самый очевидный путь к убеждениям – это видеть что-то.
Когда Ари, золотистый ретривер моей жены, машет хвостом, я верю, что он счастлив.
Почта отправляется в щель почтового ящика, и я верю, что корреспонденция будет
доставлена. Или как это сформулировал Чико Маркс: «Кому вы поверите, мне или
собственным глазам?»
Беда,
когда мы начинаем верить в то, чего не можем увидеть. И в современном мире
очень многое, во что мы верим, нельзя просто увидеть. Наши возможности получать
новые представления опосредованно – от друзей, учителей, из средств
массовой информации, а не из личного опыта – позволяют людям создавать
культуру и технологии невероятной сложности. Мой клыкастый друг Ари познает то,
что он познает, преимущественно методом проб и ошибок. Я узнаю то, что узнаю,
преимущественно из книг, журналов и Интернета. Я могу выразить некоторый
скептицизм по поводу того, что читаю. (Правда ли, что журналист Сеймур Херш
располагает серьезными анонимными источниками? Действительно ли
кинообозреватель Энтони Лэйн видел фильм «Клерки II»?) Но обычно, к добру
или не к добру, я склонен верить в то, что читаю, и узнаю многое именно из СМИ.
Ари (тоже к добру или не к добру) знает только то, что видит, слышит,
чувствует, пробует на вкус, нюхает.
В
начале 1990-х психолог Даниэль Гилберт, теперь уже хорошо известный своими
работами о счастье, проверял теорию, которая восходит к философу XVII века
Баруху де Спинозе. Идея Спинозы состояла в том, что «вся информация
[изначально] принимается в процессе ее осмысления и… ложная информация…
отвергается [только позже]». В качестве проверки гипотезы Спинозы Гилберт
представил испытуемым правдивые и ложные высказывания – временами прерывая
и отвлекая их (для того, чтобы нажать кнопку). Как и предвидел Спиноза,
перерывы повышали шанс, что испытуемые поверят в ложное утверждение[20]; другие
исследования показали, что люди с большей вероятностью принимают ложь, если их
отвлекают или дают им меньше времени. При прочих равных условиях мы
автоматически верим в идеи, с которыми сталкиваемся.
Эта
разница в порядке (между тем, что мы слышим, принимаем и оцениваем, в сравнении
с тем, что мы слышим, оцениваем и принимаем) поначалу может показаться
тривиальной, но из нее вытекают серьезные последствия. Возьмем, например,
недавно обсуждавшийся на еженедельной радиопередаче Иры Гласс сериал «Эта
американская жизнь». Профессиональный политик, ведущий кандидат в лидеры
демократической партии штата Нью-Хэмпшир, обвинен в хранении большого
количества детской порнографии. Несмотря на то что обвиняющий его представитель
штата от республиканской партии не предлагает доказательств, опороченный
кандидат вынужден отступиться, естественно, его политическая картина разрушена.
Двухмесячное расследование в итоге не приводит к появлению доказательств. Но
ущерб нанесен – хотя наше законодательство строится на презумпции
невиновности, наше сознание – нет.
На
самом деле, как каждый юрист знает интуитивно, один лишь вопрос о какой-то
возможности может увеличить шанс, что кто-то поверит в это. («Правда ли то, что
вы читали порнографические журналы в возрасте двенадцати лет?» – «Вопрос
отклоняется, как не имеющий отношения к делу».) Как показали эксперименты,
простого выслушивания чего-то в форме вопроса – а не утверждения –
часто уже достаточно для того, чтобы повлиять на представления.
Почему
люди так часто некритично воспринимают то, что они слышат? Дело в характере
эволюции представлений: из механизма, который сначала обслуживал восприятие. А
в восприятии высокий процент того, что мы видим, – правда (по крайней мере
так было до эры телевидения и фотошопа). Когда мы видим что-то, обычно вполне
можно верить этому. Цикл формирования представлений работает подобным образом –
мы собираем элементы информации прямо, посредством наших чувств, или (возможно,
чаще) косвенно, через язык и коммуникации. В любом случае мы склонны сразу же
поверить в это и только потом задумываемся, достоверно ли это, если это вообще
происходит.
Проблема
распространения подхода «сначала стреляй, вопросы – потом» на наши
представления состоит в том, что мир лингвистический внушает куда меньше
доверия, чем мир визуальный. Если нечто выглядит, как утка, и крякает, как
утка, мы имеем право считать, что это утка. Но если какой-то парень в плаще
скажет нам, что хочет продать нам утку, это уже другая история. Особенно в наше
время блогов, фокус-групп и черного пиара язык не всегда является надежным
источником правды. В идеальном мире основная логика восприятия (собрать
информацию, предположительно правдивую, а затем оценить ее, если есть время)
должна быть заменена ясными представлениями в словесной форме. Но вместо этого,
как обычно бывает, эволюция избрала ленивый выход, надстроив новые технологии
поверх убеждений, с непредсказуемыми последствиями. Наша склонность принимать
на веру то, что мы слышим и читаем, без нужной доли скептицизма, всего лишь
одно из последствий.
Йоги
Берра однажды пошутил, что бейсбол на 90% – игра наполовину
умственная; я говорю, что 90% наших убеждений наполовину сырые. Наши
представления засоряются капризами памяти, эмоциями, причудами системы
восприятия, что должно быть полностью исключено. Я не говорю уже о системе
логических умозаключений, которая в начале XXI века пока еще даже не
вылупилась из яйца.
Словарь
определяет акт веры и как «восприятие чего-то как правды», и как «представление
о существовании чего-то, особенно когда нет абсолютных доказательств». Так что
же подразумевают вера, представления, убеждения – то, что мы знаем как
правду, или то, что мы хотим считать правдой? Часто представителям нашего вида
трудно признать, что эта разница – явное напоминание о нашем
происхождении.
Эволюционировавшие
из созданий, которые часто были вынуждены действовать, а не думать, гомо сапиенс
так и не создали должной системы для отслеживания того, что мы знаем и как мы
пришли к этому знанию, не зависящей от того, что мы просто хотели бы
знать.
4
Выбор
Человек
порой ведет себя так, словно у него внутри двое – один хочет иметь чистые легкие
и долго жить, другой обожает табак; один любит совершенствовать себя, читая
Адама Смита о самообладании (в «Теории нравственных чувств»), а другой охотнее
посмотрит старый фильм по телевизору. Эти двое постоянно соревнуются друг с
другом.
Томас
Шеллинг
В
поздние 1960-е и ранние 1970-е, когда все сходили с ума от телешоу «Откровенная
камера» (предшественник YouTube, реалити-шоу и передач наподобие «Самые смешные
домашние видеофильмы»), психолог Уолтер Мишел предложил четырехлетним детям
выбор: либо один зефир сейчас, либо два, когда он вернется, если они готовы
подождать. После этого он оставлял детей в одиночестве, наедине с зефиром, не
сказав, когда вернется, а скрытая камера снимала происходящее. Некоторые дети
съедали очень уж соблазнительный зефир, едва он выходил из комнаты. Но
большинство детей хотели большего и прилагали усилия, чтобы дождаться его. Они
пытались. Мучительно. И когда в комнате никого не было, их муки были очевидны.
Дети делали все, что было в их силах, чтобы отвлечься от искушения взять зефир,
лежащий перед ними: они разговаривали сами с собой, раскачивались, закрывали
глаза, садились себе на руки – такие стратегии с успехом могут применять и
некоторые взрослые. Несмотря на все это, для половины детей 15-20 минут
ожидания, пока вернется Мишел, оказывались слишком долгими.
Решение
сдаться после 15 минут логично в двух случаях: 1) дети были так голодны, что,
съев зефир, могли избавить себя от страданий, или 2) их перспектива долгой
счастливой жизни была столь отдаленной, что вариант будущего через 20 минут,
который должен был принести два зефира, просто не стоило брать в расчет.
Отказывая себе в этих довольно отдаленных возможностях, дети, которые не
выдерживали, вели себя нерационально.
Конечно,
не только малыши слабы перед лицом искушений. Подростки часто водят машину на
опасной скорости даже на автобане, и люди всех возрастов позволяют себе
незащищенный секс с незнакомыми людьми, хотя и осведомлены о рисках.
Эксперимент с дошкольниками и зефиром аналогичен моему опыту с малиновым тортом:
я знаю, что потом пожалею об этом, но сейчас я отчаянно хочу его. Если вы
спросите людей, что они предпочитают: получить чек на $100 сейчас или сумму в
два раза больше, но с правом обналичить чек через три года, – более половины
возьмут $100 сейчас. (Забавно, и я вернусь к этому позже, что предпочтения
многих людей меняются, когда временной горизонт отдаляется. Тогда они выбирают
$200 через девять лет, а не $100 через шесть лет.) Далее существует ежедневный
неподконтрольный выбор алкоголика, наркомана, игрока. Не говоря уже об
осужденных из Род-Айленда, которые пытались убежать из тюрьмы на 89-й день
90-дневного срока заключения.
В
целом явления, которые я описал, философы называют слабоволием, и это первое
свидетельство того, что умственные механизмы, управляющие нашими ежедневными
решениями, могут быть точно таким же клуджем, как и те, что ежедневно управляют
памятью и убеждениями.
Википедия
определяет Homo Economicus, или экономического человека, исходя из
посылки, популярной во многих экономических теориях, что человек «рационален,
действует в собственных интересах, желает богатства, избегает лишнего труда и
наделен способностью претворять решения в жизнь».
На
первый взгляд это определение кажется ужасно разумным. Кто из нас не озабочен
собственными интересами? И кто не хочет при возможности избежать ненужного
труда? (Зачем убираться в квартире, если не ждешь гостей?) Но как сказал
архитектор Мис ван дер Роэ: «Бог в деталях». Мы действительно успешно
уклоняемся от ненужной работы, но истинная рациональность предполагает
высочайший стандарт, часто выходящий за пределы нашего разумения. Для того
чтобы действительно быть рациональными, мы как минимум должны принимать каждое
решение не под влиянием спонтанных желаний, а с открытыми глазами, бесстрастно рассматривая
плюсы и минусы. Увы, как мы увидим, вся тяжесть улик из физиологии и неврологии
свидетельствует об обратном. Мы можем быть рациональными, если повезет. Но, как
правило, это не так.
Для
того чтобы разобраться в том, что мы как вид можем или не можем делать хорошо –
когда мы принимаем решения здраво, а когда из рук вон плохо, – необходимо
перестать идеализировать экономического человека и основательнее разобраться в
человеческой психологии. Чтобы увидеть, почему некоторые из наших решений кажутся
разумными, а другие – совершенно идиотскими, мы должны понять, как наша
способность делать выбор эволюционировала.
Начну
с хорошей новости. Порой человеческие решения бывают вполне рациональными. Два
профессора Нью-Йоркского университета, например, исследовали решения испытуемых
в ходе простейшей видеоигры с сенсорным экраном и обнаружили, что в параметрах
простого задания люди были настолько рациональны (с точки зрения максимального
вознаграждения относительно риска), насколько это вообще можно вообразить. Две
цели – одна зеленая, другая красная – появляются (и остаются в неподвижности)
на экране. В этом задании ты получаешь очки, если прикасаешься к зеленому
кругу, и теряешь большее количество очков, если прикасаешься к красному.
Проблема
возникает, когда два круга перекрывают друг друга, что случается часто. Если вы
прикасаетесь в зону наложения кругов, то получаете одновременно и поощрение, и
(еще больший) штраф, неся, таким образом, абсолютные потери. Поскольку
испытуемых провоцируют касаться экрана быстро, а людей с идеальной координацией
глаза и руки не бывает, оптимальный выход – это делать касания где угодно, только
не в центре зеленого круга. Например, если зеленый круг совпадает с
красным с правой стороны красного круга, то касаться центра зеленого круга
рискованно: попытка дотронуться до самого центра зеленого круга может иногда
привести к тому, что вы ткнете левее от центра и попадете в зону потери очков,
туда, где совмещаются красный и зеленый круг. Вместо этого лучше целиться правее
центра зеленого круга, сохраняя высокую вероятность попасть в зеленый круг
и минимизируя возможность ткнуть в красный. Каким-то образом люди вычисляют все
это, хотя и не обязательно сознательно. Еще более замечательно то, что они
делают это почти с идеально выверенной особой точностью их собственной
индивидуальной системы координации рук и глаз. Адам Смит и не мечтал о
большем.
Плохая
новость в том, что такая рациональность может быть скорее исключением, чем
правилом. Люди так хорошо справляются с заданием по попаданию в круг потому,
что задействованная здесь ментальная способность – дотягиваться до предметов –
поистине древняя. Она сродни рефлексу не только у людей, но и у животных,
которые хватают еду, чтобы приблизить ее ко рту; к тому времени, когда мы
становимся взрослыми, мы владеем этой системой настолько, что никогда даже не
задумываемся над этим. Например, чисто в техническом смысле каждый раз, когда я
протягиваю руку к чашке чая, я делаю несколько выборов. Я решаю, что хочу чай и
что потенциальное удовольствие и гидратация, предлагаемые напитком,
перевешивают риск расплескать его. Более того, и даже менее сознательно я
решаю, под каким углом направить руку. Воспользоваться мне левой рукой (которая
ближе) или правой рукой (которая более координирована)? Взяться мне за середину
кружки или за ручку? Наши руки и мышцы координируются автоматически, пальцы
образуют зажим, а локоть сгибается настолько, чтобы кисть руки оказалась в
нужном месте. Необходимость дотянуться до чего-либо постоянно сопровождает нас
по жизни и подразумевает принятие множества решений. А эволюция располагала
достаточным временем, чтобы довести этот процесс до совершенства.
Что
касается экономики, то она не имеет отношения к тому, как человек протягивает
руку за кружкой с кофе, она подразумевает теорию о том, как тратить деньги,
распределять время, планировать уход на пенсию и т.д. – предполагается, что это
хотя бы отчасти теория о принятии людьми сознательных решений.
И
часто чем ближе мы к сознательному принятию решений, более недавнему продукту
эволюции, тем хуже наши решения. Когда профессора Нью-Йоркского университета
переработали свою задачу с хватательным рефлексом так, чтобы сделать ее более
ясной проблемой в словесной форме, эффективность большинства испытуемых резко
снизилась. Наши сознательные системы как продукт более недавней эволюции в этом
отношении не соответствуют нашей более древней системе мышечного контроля.
За
пределами этой сферы есть множество обстоятельств, в которых эффективность
человека предсказуемо не позволяет говорить о какой-либо рациональности.
Давайте
предположим, например, что я даю вам возможность выбрать участие в двух разных
лотереях. В одной лотерее ваш шанс выиграть $1 млн составляет 89%, шанс
выиграть $5 млн – 10% и шанс не выиграть ничего – 1%. В другой лотерее у вас
стопроцентный шанс выиграть $1 млн. Какую лотерею вы выберете? Почти всякий
выберет беспроигрышный вариант.
Теперь
предположим, что ваш выбор немного усложняется. Вы должны предпочесть шанс в
11% на выигрыш в $1 млн, или шанс в 10% на выигрыш в $5 млн. Что вы выберете? В
данном случае почти все выбирают второй вариант – 10% при ставке в $5 млн.
Что
было бы разумно сделать? Согласно теории рационального выбора, вам следует вычислить
вашу «ожидаемую выгоду», или ожидаемый выигрыш, усредняющий сумму выигрыша при
всех возможных вариантах, взвешенную по их вероятности. Шанс в 11% на $1 млн
дает ожидаемый выигрыш в $110 000; 10% на $5 млн дает ожидаемый выигрыш в $500
000, что безусловно являет собой лучший выбор. Пока все хорошо. Но если вы
примените ту же логику к первому набору вариантов решений, вы обнаружите, что
поведение людей менее рационально. Ожидаемый выигрыш в лотерее, где
подразумевается соотношение 89% / 10% / 1 %, составляет $1 390 000 (89% от $1
млн плюс 10% от $5 млн плюс 1% от $0), в сравнении с просто одним
гарантированным миллионом. Тем не менее почти все хотят миллион баксов –
отказываясь почти от полмиллиона. Чистое безумие с точки зрения рационального
выбора.
В
другом эксперименте студентам предлагалось сделать выбор из двух лотерейных
билетов, в одном – один шанс из 100 выиграть ваучер на поездку в Париж
стоимостью в $500, в другом – один шанс из 100 выиграть ваучер на $500 в счет
оплаты обучения в колледже. Большинство выбрало Париж. Ради бога, если Париж
привлекательнее офиса казначея колледжа, быть по сему. Но когда шанс возрастает
от 1 из 100 до 99 из 100, предпочтения большинства людей меняются ; при
почти полной гарантии выигрыша большинство студентов неожиданно обращаются к
ваучеру на обучение, а не к путешествию – явное помешательство, если они
действительно хотели в Париж.
Возьмем
совершенно другой пример, рассмотрим простой вопрос, который я поставил в
первой главе: поедете ли вы через весь город, чтобы сэкономить $25 на
стодолларовой микроволновке? Большинство людей говорят «да», но едва ли кто-то
из них поедет через весь город, чтобы сэкономить те же самые $25 на телевизоре
стоимостью $1000. С точки зрения экономиста, такой образ мышления тоже
иррационален. Мотив ехать должен зависеть от двух вещей: от ценности вашего времени
и стоимости бензина, и ни от чего другого. Либо ваше время и горючее стоят
меньше $25, и тогда вам есть смысл ехать, либо ваше время и горючее стоят
больше $25, и тогда вам нет смысла ехать. Вот и вся история. Поскольку труд
ехать через город в обоих случаях одинаков и денежное выражение то же самое,
нет никакой разумной причины считать, что в одном случае это имеет смысл, а в
другом – нет.
В
то же время для любого человека, который не обучался экономике, выигрыш в $25
на $100 кажется выгодной сделкой («Я сэкономил 25%!»), тогда как экономия в $25
на $1000 кажется нелепой тратой времени. («Мчаться через весь город, чтобы
получить скидку в 2,5%? Ну, это разве от нечего делать».) В беспристрастной
арифметике экономиста, доллар он и есть доллар, но большинство обычных людей
упорно продолжают размышлять о деньгах совершенно нерационально: не в
абсолютном выражении, а в относительных понятиях.
Что
заставляет нас думать о деньгах в относительных понятиях (менее рациональных),
а не в абсолютных (более рациональных)?
Прежде
всего люди в процессе эволюции не привыкли думать о цифрах, а тем более о
деньгах. И деньги, и численные системы распространены не везде. В некоторых
культурах торгуют только посредством натурального обмена, а в каких-то есть
простые счетные системы с примитивными численными понятиями, например: один,
два, много. Ясно, что обе счетные системы и деньги – культурные
изобретения. С другой стороны, все позвоночные животные снабжены тем, что
некоторые психологи называют «аппроксимированной системой» для чисел, чтобы они
могли отличать большее от меньшего. И эта система в свою очередь имеет особое
свойство «нелинейности»: разница между 1 и 2 субъективно кажется больше, чем
разница между 101 и 102. Большая часть мышления построена по этому принципу,
известному как закон Вебера. Так, лампочка в 150 ватт кажется лишь немного ярче
лампочки в 100 ватт, в то время как 100-ваттная лампа кажется намного ярче, чем
50-ваттная.
В
некоторых сферах следование закону Вебера имеет определенный смысл: хранение
лишних двух килограмм зерна относительно базового количества в 100 кг вряд ли
будет иметь значение, если все после первых килограммов в конечном итоге
испортится; на самом деле важна разница между голодом и его отсутствием.
Конечно, деньги не портятся (за исключением гиперинфляции), но наш мозг не
эволюционировал в отношении способности иметь дело с деньгами; он развивался
для того, чтобы справляться с добыванием пищи.
И
даже сегодня существует заметное взаимовлияние между тем и другим. Например,
люди менее склонны давать деньги на благотворительность, когда они голодны, чем
когда сыты; в то же время участники эксперимента (за исключением тех, кто на
диете) в состоянии «жажды денег» при тестировании вкусовых качеств продуктов
едят больше M&Ms, чем это делают люди в ситуации «низкой потребности в
деньгах».[21]
В той мере, в какой наше понимание денег накладывается на наше понимание пищи,
тот факт, что мы думаем о деньгах в относительных понятиях, возможно, означает
нечто большее, чем еще один несчастный случай нашей когнитивной истории.
«Рождественские
клубы», счета, на которые люди откладывают небольшие суммы денег в течение
всего года с целью иметь достаточно денег на рождественские покупки в конце
года, дают еще один повод для размышлений. Хотя цель достойна восхищения, такое
поведение (по крайней мере с точки зрения классической экономики)
нерационально: счета «Рождественских клубов» обычно имеют низкое сальдо и
соответственно более низкие проценты, чем можно получить, вложив деньги
по-другому. В любом случае эти деньги были бы потрачены правильнее, если бы они
пошли на погашение дорогостоящих кредитов. Тем не менее люди постоянно делают
именно так, создавая реальные или воображаемые счета для разных целей, словно
эти деньги не принадлежат им.
«Рождественские
клубы» и т. п. продолжают существовать не потому, что они рациональны в
финансовом отношении, а потому, что они представляют собой средство сбережения,
соответствующее особенностям нашего мышления: они обеспечивают способ
справиться с собственной слабой волей. Если бы мы обладали большим
самообладанием, нам не нужны были бы подобные хитрости. Мы хранили бы все
деньги на одном счете, который приносит максимальный процент, и снимали их с
него при необходимости. Только из-за того, что искушение сегодняшнего дня часто
перевешивает абстрактную реальность будущего, мы не делаем такой простой,
финансово разумной вещи.
(Именно
сегодняшние искушения оставляют многих на мели в будущем; почти две трети
американцев слишком мало накапливают себе на жизнь на пенсии.) Рациональность
отсутствует и тогда, когда мы думаем о так называемых невозвратных расходах.
Представим, например, что вы решили посмотреть пьесу и потратили $20 на билет –
только для того, чтобы, придя в театр, обнаружить, что билет потерян. Вообразим
теперь, что вам предстояло сидеть по входному билету (то есть за вами не было
закреплено конкретного места) и теперь нет никакого способа вернуть билет.
Купите ли вы другой билет? Исследования показали, что половина людей отвечает
утвердительно, тогда как вторая половина сдается и отправляется домой, 50 на
50; вполне логично. Но сравните этот сценарий с другим, который совсем
чуть-чуть отличается от этого. Скажем, вы потеряли деньги, а не заранее
купленный билет. («Представьте, что вы хотели посмотреть пьесу, входной билет
стоит $20. Придя в театр и приготовившись купить билет, вы обнаруживаете, что
потеряли банкноту в $20. Станете ли вы тем не менее платить $20 за билет на
спектакль?») В этом случае 88% испытуемых сказали «да» – хотя трата лишних $20
в обоих сценариях была одна и та же.
А
вот еще более говорящий пример. Допустим, вы платите $100 за путевку на уик-энд
в Мичиган, чтобы покататься на лыжах. Несколькими неделями позже вы тратите $50
на другую лыжную вылазку, на этот раз в Висконсин, и, хотя поездка дешевле, вы
думаете, что получите от нее больше удовольствия. После этого, имея в кошельке
только что купленную путевку в Висконсин, вы понимаете, что сглупили: обе
путевки оказались на один и тот же уик-энд! Продавать любую из них уже поздно.
В какое путешествие вы отправитесь? Более половины испытуемых сказали, что
выбрали бы Мичиган – даже понимая, что больше насладятся поездкой в Висконсин.
При том, что деньги на обе поездки уже потрачены (безвозвратно), этот выбор не
имеет смысла; человек получит больше пользы (удовольствия) от поездки в
Висконсин, не неся дополнительных расходов, но человеческий страх «потери»
убеждает его выбрать путешествие, которое доставит ему меньшее удовольствие.[22] В глобальном
масштабе подобные сомнительные умозаключения могут иметь серьезные последствия.
Даже президенты, как известно, упорно гнут прежнюю линию, когда всем очевидно,
что политика неэффективна.
Экономисты
говорят нам, что мы должны оценивать стоимость вещи в зависимости от ее
ожидаемой полезности или удовольствия, которое она может дать[23], и покупать ее лишь в
том случае, когда полезность превышает запрашиваемую цену. Но и здесь
человеческое поведение отклоняется от экономически рационального. Если первый
принцип определения стоимости состоит в том, что человек всегда придерживается
относительных понятий (как мы это видели выше), второй заключается в том, что
люди часто имеют самое смутное представление о том, что чего на самом деле
стоит.
Вместо
этого мы часто полагаемся на вторичные критерии, например, насколько
удачна, по нашему мнению, совершаемая нами сделка. Рассмотрим, к примеру,
вопрос в одной из песен Боба Меррилла: «Сколько стоит тот песик в окошке?»
Сколько стоит породистая собака? Стоит ли золотистый ретривер в сто раз больше,
чем билет в кино? Или в тысячу раз? Или в два раза больше поездки в Перу? Или
это одна десятая стоимости BMW с откидывающимся верхом? Только экономист стал
бы спрашивать.
Но
то, что люди делают в реальности, не менее странно: часто они обращают, больше
внимания на болтовню продавца, чем на собаку, которая продается. Если собаковод
называет цену $600, а покупатель сбивает ее до $500, то последний приобретает
ее и считает, что ему повезло. А если продавец начинает с $500 и не уступает в
цене, покупатель может в раздражении уйти. И скорее всего этот покупатель –
глупец. Если собака здорова, вероятно, трата в $500 вполне оправданна.[24]
Возьмем
другой случай: допустим, в жаркий день вы сидите на лавочке, и вам нечего пить,
а очень хочется прохладного пива. Предположим далее, ваш друг любезно предлагает
достать вам пиво, при условии, что вы дадите ему деньги. Его единственное
требование – чтобы вы сказали (заранее) максимальную сумму, которую готовы
заплатить; ваш друг не хочет брать на себя ответственность, решая за вас. Люди
часто устанавливают ограничения в зависимости от того, где пиво будет
продаваться; вы можете заплатить и $6, если пиво будет продаваться в ресторане,
но не больше $4, если друг сходит в ларек в конце пляжа. С точки зрения
экономиста, это несусветная чушь: истинная мера должна быть: «Сколько
удовольствия мне это доставит?», а не: «Сопоставима ли цена ларька / ресторана
с ценой аналогичных заведений?» $6 это $6, и, если пиво доставит вам
удовольствие на $10, оно того стоит, даже если они будут потрачены в самом
дорогом в мире ларьке. На сухом языке экономиста это звучит так: «Опыт
потребления один и тот же».
Психолог
Роберт Чалдини рассказывает историю о своей приятельнице, хозяйке магазина, у
которой была проблема с продажей ожерелий. Собравшись уезжать в отпуск,
владелица магазина оставила записку сотрудникам, позволяя им снизить цену
вдвое. Ее сотрудники, которые не поняли написанного, наоборот, увеличили цену в
два раза. Если ожерелья не продавались по $100, трудно было ожидать, что их
купят по $200. Однако именно это и случилось; к тому времени, когда владелица
вернулась, весь запас был продан. Покупатели были готовы приобрести такое
ожерелье по высокой цене, а не по низкой, вероятно, потому, что рассматривали
цену как выражение ценности. С точки зрения экономики это безумие.
Что
мы здесь наблюдаем? Эти два последних примера могут напомнить вам то, что мы
видели в предыдущей главе: эффект якоря. Когда стоимость, которую мы
присваиваем чему-либо, зависит от таких относительных вещей, как стартовая цена
владелицы магазина, поскольку она придает предмету внутренне присущую ценность,
это значит, что нам морочит голову эффект якоря.
Эффект
якоря настолько свойствен человеческому сознанию, что распространяется не
только на то, как мы оцениваем щенков или материальные объекты, но и на такие
нематериальные явления, как сама жизнь. В одном недавнем исследовании,
например, людей спрашивали, сколько они готовы платить в год за повышение
безопасности автомобиля, что уменьшило бы риск несчастных случаев с летальным
исходом. Интервьюеры начинали с вопроса, готовы ли испытуемые заплатить некую
явно небольшую цену: либо £25, либо £75. Возможно, оттого, что
никто не пожелал показать себя бесчувственным, ответы были утвердительные.
Самое забавное происходило потом: экспериментатор повышал цену до тех пор, пока
не обнаруживал, что испытуемый назвал свой верхний лимит. Когда экспериментатор
начинал с £25 в год, испытуемые доходили до £149. И наоборот, когда
экспериментатор начинал с £75 в год, испытуемые были склонны дойти до
суммы почти на 40% выше, что составляло средний максимум в £232.
В
самом деле, практически всякий выбор, который мы делаем, экономический или нет,
так или иначе зависит от того, как проблема преподнесена. Рассмотрим, например,
следующий сценарий.
Представьте, что в стране ожидается страшная
вспышка необычной болезни и от нее должно погибнуть 600 человек. Предложены две
альтернативные программы борьбы с болезнью. Допустим, что точные научные оценки
последствий программы таковы.
Если будет принята программа А, будет спасено
200 человек.
Если будет принята программа Б, есть
вероятность 1:3, что все 600 человек спасутся, и вероятность 2:3, что не
спасется никто.
Большинство
людей выбирает программу А, не желая подвергать риску все жизни. Но
предпочтения людей меняются, если этот же выбор преподносится иначе:
Если будет принята программа А, погибнет 400
человек.
Если будет принята программа Б, есть
вероятность 1:3, что не умрет никто, и вероятность 2:3, что умрет 600 человек.
«Спасти
200 жизней» (из 600) некоторым почему-то кажется хорошей идеей, в то время как
позволить умереть 400 (из тех же самых 600) кажется плохой идеей – несмотря на
то, что результат в обоих случаях один и тот же. Изменилась только формулировка
вопроса, психологи называют это рамочным эффектом, или фреймингом.
Политики
и рекламодатели постоянно используют нашу подверженность фреймингу. Налог на
смерть звучит куда более зловеще, чем налог на наследство, а населенный пункт,
где уровень преступности составляет 3,7%, вероятно, получит больше ресурсов по
сравнению с тем, который описывается как свободный от преступлений на 96,3%.
Рамочный
эффект обладает такой властью потому, что, как и вера, неизбежно опосредован
памятью. И, как мы уже видели, память, которой снабдила нас эволюция,
естественно и неизбежно формируется временными деталями контекста. И часто
достаточно поменять контекст (здесь используются современные слова), чтобы
изменился выбор. «Налог на смерть» вызывает мысли о смерти, о фатуме, которого
мы все боимся, в то время как «налог на наследство» дает нам возможность думать
о богатстве, предлагая налог, едва ли имеющий отношение к среднему
налогоплательщику. «Уровень преступности» заставляет нас думать о
преступлениях; процент свободы от преступлений наводит на мысль о безопасности.
То, о чем мы думаем – что приходит на память, когда мы принимаем решение, –
часто меняет дело.
В
самом деле, вся отрасль рекламы строится на предпосылке: если продукт вызывает
приятные ассоциации, неважно, даже если они не имеют отношения к делу, вы
скорее купите его.[25]
Одна
юридическая фирма в Чикаго недавно испытала власть памяти и намеков, наводящих
на мысль, предлагая не картофельные чипсы или пиво, а расторжение брака. Каким
образом? На билборде шириной 48 футов, изготовленном из трех панелей, следующее
изображение: фигура потрясающе привлекательной женщины, грудь, выпирающая из
черного кружевного лифчика; торс не менее красивого мужчины без рубашки,
лоснящиеся бицепсы, и как раз над названием юридической фирмы и контактной
информацией лозунг: жизнь коротка – разводитесь.
Сомневаюсь,
что эта надпись возымела бы действие на особей, менее ведомых контекстуальной
памятью и спонтанным праймингом. Но у таких видов, как наш, есть повод для
беспокойства. Размышления о разводе, несомненно, один из самых трудных выборов,
которые случается делать человеку. На одной чаше весов – надежды на будущее, на
другой – страх одиночества, сожаления, финансовые последствия и (особенно)
забота о детях. Немногие люди способны с легкостью принимать подобные решения.
В рациональном мире поддразнивания билборда не оказали бы ни на кого ровным
счетом никакого влияния. В реальном мире людей из плоти и крови с клуджевыми
мозгами те, которые прежде и не помышляли о разводе, могут призадуматься. Более
того, билборд наводит на мысль о том, как люди думают о разводе, заставляя их
оценивать свой брак не с позиции содружества, семьи, финансовой безопасности, а
с точки зрения насыщенности бурными сексуальными отношениями.
Если
это кажется несколько умозрительным, то лишь потому, что юридическая фирма не
по своей воле через пару недель сняла вывеску, так что прямых свидетельств нет.
Но огромная литература по маркетингу подтверждает мои мысли. В одном
исследовании, например, людям задали вопрос, насколько вероятно, что они купят
машину в ближайшие полгода. Среди людей, которых спрашивали, собираются ли они
покупать машину, оказалось почти вдвое больше тех, кто впоследствии
действительно купил, чем среди тех, кого не опрашивали. (Ничего удивительного,
что многие автодилеры формулируют вопрос, не собираетесь ли вы покупать
машину, а когда вы собираетесь ее покупать.)
Группа
явлений, которые я рассмотрел: фрейминг, эффект якоря, восприимчивость к
рекламе и т.п. – лишь часть головоломки; наши решения часто засоряются
воспоминаниями изнутри. Рассмотрим, например, исследование, в котором офисные
сотрудники, одни голодные, другие нет, выбирали еду для перекусов на
предстоящей неделе. 72% из тех, что были голодны во время принятия решения (за
несколько дней до того, как им предстояло получить еду, которая обсуждалась),
выбрали нездоровую пищу вроде картофельных чипсов или шоколадных плиток. Среди
людей, которые не чувствовали себя голодными, всего 42% выбирали такую же
нездоровую еду; большинство предпочли яблоки и бананы. Все знают, что лучше
перекусить яблоком (с точки зрения нашей долгосрочной цели быть здоровыми), но,
когда мы ощущаем голод, память об удовольствии от соленой или сладкой пищи
одерживает победу.
Все
это, разумеется, результат эволюции. Рациональность по определению требует
взвешенного и разумного анализа данных, но устройство памяти млекопитающего
просто не приспособлено для этой цели. Скорость и зависимость памяти от
контекста, несомненно, помогали нашим предкам, вынужденным принимать
стремительные решения в требующей напряжения сил обстановке. Но в нынешние времена
ценным свойством стала надежность. Когда условия говорят нам одно, а разум –
другое, рациональность часто проигрывает.
Эволюционная
инерция сделала третий значительный вклад в иррациональность современного
человека, настроив нас на ожидание некоторой степени неопределенности, что по
большей части (и к счастью) отсутствует в современной жизни. Еще совсем недавно
наши предки не могли рассчитывать на хороший урожай в следующем году, и синица
в руке была лучше журавля в небе. Когда не было холодильников, презервативов,
бакалейных магазинов, простое выживание было гораздо менее гарантировано, чем
теперь, или, как сказал Томас Гоббс, жизнь была «тяжелой, безрадостной и
короткой».
В
результате сотни миллионов лет эволюция отбирала создания, которые жили
настоящим моментом. Среди всех видов, которые когда-либо изучались, животные
следовали по «кривой гиперболического дисконтирования». Эти красивые слова
означают, что животные ценят настоящее гораздо больше, чем будущее. И чем ближе
искушение, тем труднее противостоять ему. Например, при отдаленности пищи в 10
секунд голубь может, если можно так выразиться, догадаться, что стоит подождать
14 секунд, чтобы получить четыре унции пищи, а не одну унцию через 10 секунд.
Но если вы подождете 9 секунд и позволите голубю изменить свой выбор в
последний момент, он это сделает. При отдаленности пищи всего в 1 секунду
желание еды немедленно пересиливает желание большего количества позже, голубь
отказывается ждать лишние 4 секунды, как голодный человек набрасывается на
чипсы в ожидании обеда.
Жизнь
всегда гораздо стабильнее для людей, чем для среднего голубя, а лобные доли
человека намного больше, но тем не менее люди не могут преодолеть
атавистическую привычку жить настоящим моментом. Когда мы голодны, мы жадно
поглощаем картофель фри, словно запасаясь углеводами и жиром впрок, словно на
следующей неделе нам не удастся их найти. Ожирение сопровождает нас по жизни не
просто потому, что у нас недостаточная физическая нагрузка, но и потому, что
наши мозги не понимают относительной беззаботности современной жизни.[26] Мы продолжаем
игнорировать будущее, даже если живем в мире круглосуточных магазинов и
доставки пиццы.
Дисконтирование
будущего касается далеко не только пищи. Оно затрагивает и то, как люди тратят
деньги, а в результате не могут отложить достаточно на пенсионный период и
увеличивают объем кредитов и долгов. Просто $1 сейчас кажется более ценным, чем
$1,20 через год. И никто, похоже, не задумывается о том, с какой скоростью
растут сложные проценты, в частности, потому, что субъективное будущее так
далеко – или по крайней мере мы привыкли в ходе эволюции так думать. Для
разума, не эволюционировавшего в отношении восприятия денег, не говоря уже о
будущем, кредитные карты становятся не менее серьезной проблемой, чем крэк.
(Крэк употребляет один из 50 американцев, зато почти половина населения
постоянно имеет долги на кредитной карте, почти 10% имеет долг более $10 000.)
Чрезмерный
фаворитизм в отношении настоящего в ущерб будущему имел бы смысл, если бы наша
жизнь была существенно короче или если бы мир был менее предсказуем (как это
было, когда жили наши предки). Но в странах, где банковские счета гарантируются
государством, а продовольственные магазины постоянно возобновляют запасы, явное
предпочтение настоящего часто совершенно контрпродуктивно.
Чем
больше мы игнорируем будущее, тем больше подвержены краткосрочным искушениям,
таким как наркотики, алкоголь, переедание. Как пишет Ховард Рахлин:
…Здоровая жизнь в течение, скажем, десяти лет
нас вполне устраивает… Говоря о периоде в десять лет, практически все
предпочтут здоровый образ жизни, вместо того чтобы проваляться все это время на
диване. Тем не менее мы (в большей или меньшей степени) предпочитаем выпить этот
напиток, чем не пить его, съесть шоколадное мороженое, а не воздержаться
от него, выкурить эту сигарету, а не отказаться от нее, посмотреть эту
телепрограмму вместо того, чтобы полчаса позаниматься физкультурой…
[Курсив добавлен.]
Не
думаю, что будет преувеличением сказать, что противоречие между ближайшим и
отдаленным будущим многое объясняет в современной западной жизни: выбор между
походом в спортзал сейчас или просмотром фильма дома, между удовольствием от
жареной картошки сейчас или риском раздуться до гигантских размеров позже.
Но
мысль о том, что мы недальновидны в наших решениях, на самом деле объясняет
лишь половину наших буржуазных конфликтов. Другая половина истории в том, что
мы, люди, единственный вид, достаточно умный для того, чтобы понять, что есть и
другие варианты. Когда голубь выбирает одну унцию сейчас, я не уверен, что он
чувствует, что теряет что-то, и сожалеет об этом. Зато я вполне способен
одолеть целый пакет попкорна, по иронии судьбы, продаваемого под лозунгом
«Умная еда», даже понимая, что через несколько часов буду сожалеть об этом.
И
это тоже, несомненно, признак клуджа: когда я делаю какую-то глупость, кажется
очевидным, что мой мозг – это конгломерат из множества систем, работающих в
конфликте. В ходе эволюции первой была создана наследственная рефлексивная
система, и во вторую очередь развились системы рационального сознательного
мышления – прекрасного самого по себе. Но всякий хороший инженер, вероятно,
подумает о том, как интегрировать эти две системы, возможно, преимущественно
или полностью, обращая выбор в пользу более рассудительной лобной доли (за
исключением, может быть, экстренных ситуаций, когда время ограниченно и мы
должны действовать, не пользуясь преимуществами рефлексов). Вместо этого наша
наследственная система, похоже, является выбором по умолчанию, нашей первой
подсказкой почти все время, независимо от того, нуждаемся мы в ней или нет. Мы
не прибегаем к нашей рассуждающей системе не просто при нехватке времени, но и
тогда, когда мы устали, расстроены или просто нам лень; использование
рассуждающей системы требует воли. Почему? Возможно, просто потому, что более
древняя система возникла первой – а в системах, построенных по принципу
поступательного наложения, то, что появляется первым, обычно сохраняется в
неизменном виде. И неважно, насколько это недальновидно, наша рассуждающая
система (если она все-таки подключается) неизбежно оказывается зараженной.
Ничего удивительного, что дисконтирование будущего слишком устойчивая привычка,
чтобы поколебать ее.
Последний
сбой в системе выбора мы наблюдаем, когда речь идет о противоречии между
логикой и эмоциями. Искушение ближайшим результатом – далеко не единственный
пример, многие алкоголики знают, что постоянное пьянство разрушает их, но
предвкушаемое удовольствие от выпивки в данный момент часто оказывается
достаточным для того, чтобы отказаться от разумного выбора. Эмоция – все, воля
– ничто.
Возможно,
это только миф, что Менелай объявил войну Трое после того, как Парис похитил
любимую Менелая, но нет особых сомнений в том, что некоторые из наиболее
значимых решений в истории принимаются по причинам скорее эмоциональным, чем
рациональным. Это, в частности, относится и к вторжению в 2003 году в Ирак;
спустя несколько месяцев цитировали такие слова президента Буша по поводу
Саддама Хусейна: «В конце концов, он пытался убить моего отца». Эмоции почти
наверняка играют роль, когда некоторые люди решают убить свою вторую половину,
особенно застигнутую на месте преступления. Положительные эмоции тоже, конечно,
влияют на многие решения – на то, какие покупаются дома, кого выбирают в мужья
или жены. Иногда сомнительных людей, которых совсем и не знают. Как любит
говорить мой отец: «Все сделки (а на самом деле все решения) эмоциональны».
С
точки зрения идей этой книги клудж состоит не столько в том, что люди иногда
полагаются на эмоции, сколько в том, как эти эмоции взаимодействуют с рассуждающей
системой. Это справедливо не только в отношении упомянутых мною сценариев – где
присутствуют ревность, любовь, месть и т.д., – но даже для случаев, когда наши
эмоции, казалось бы, никак не затронуты. Рассмотрим, например, исследование, в
котором испытуемым задавали вопрос, сколько они готовы вложить в различные
программы защиты окружающей среды, такие как спасение дельфинов или обеспечение
бесплатных медосмотров сельскохозяйственных рабочих с целью уменьшения случаев
рака кожи. Когда их спрашивали, какая из этих мер, по их мнению, наиболее
важна, большинство людей отмечали сельхозрабочих (возможно, потому что
оценивали человеческую жизнь выше, чем жизнь дельфинов). Однако когда
исследователи спрашивали, сколько денег они готовы выделить на каждый из этих
случаев, то они давали больше на дельфинов. Любой выбор сам по себе имеет
смысл, но принимать оба решения одновременно, как вы сами можете судить,
непоследовательно. Почему кто-то решил, что нужно тратить деньги на дельфинов,
если считает человеческую жизнь важнее дельфиньей? Это говорит, во-первых, о
том, что наша рассуждающая система не синхронизирована с нашей наследственной
системой, а во-вторых, об импульсивности заявлений о контроле.
Еще
в одном недавнем исследовании людям показывали лицо – счастливое, печальное или
нейтральное – примерно в течение одной минуты. А после этого предлагали выпить
«новый лимонно-лаймовый напиток». После наблюдения за счастливыми лицами люди
пили больше лимонно-лаймового напитка, чем после лицезрения печальных лиц, и
были готовы заплатить в два раза больше за это удовольствие. Все это
подразумевает, что процесс прайминга воздействует на наш выбор так же, как наши
убеждения: счастливое лицо готовит нас воспринимать напиток как приятный, а
печальное лицо создает желание отказаться от напитка (как от неприятного). Что
же удивительного в том, что рекламодатели почти всегда представляют нам, как
назвала их рок-группа REM, «лучезарных, счастливых людей»?
А
вот еще более обескураживающее исследование. Группу испытуемых просили играть в
игру, известную как «дилемма заключенного», в которой от пар людей требовалось
выбрать: либо помогать друг другу, либо «вредить» (не помогать). Больший
выигрыш (скажем, $10) получают те стороны, которые обе действуют совместными
усилиями. Средний приз (допустим, $3) получают те пары, в которых одна сторона
действует в интересах другой, а противоположная – во вред. И ничего не получают
те пары, в которых обе стороны вредят друг другу. Основная процедура – обычная
в психологическом эксперименте; особенность этого конкретного исследования
состояла в том, что, прежде чем люди начинали играть в игру, они сидели в
комнате ожидания, где по радио шли новости, казалось бы, не имевшие отношения к
делу. Одни испытуемые слушали новости в просоциальном духе (о священнике,
пожертвовавшем больному свою почку); другие, напротив, узнали о священнике,
совершившем убийство. Что происходило дальше? Вы угадали: люди, слушавшие о
добром священнике, были гораздо более склонны кооперироваться, чем те, кто
слушал о плохом священнике.
Во
всех этих исследованиях эмоции того или иного типа формируют воспоминания, а
эти воспоминания в свою очередь влияют на выбор. Иллюстрацию другого рода
приводит экономист Джордж Ловенштейн, он называет это висцерогенным влечением[27]. Одно
дело – отвергнуть абстрактный шоколадный торт, другое дело – когда официант
протягивает меню десертов. Учащиеся колледжа, которых спросили, готовы ли они
рискнуть 30 минутами ради возможности выиграть столько свежеприготовленного
шоколадного печенья, сколько они смогут съесть, чаще отвечали согласием, если
видели печенье, чем если просто слышали о нем.
Голод,
однако, ничто в сравнении с сексуальным вожделением. В следующем эксперименте
показаны молодые мужчины, которые знакомятся либо с написанным, либо со снятым
на пленку (более висцеральным) киносценарием, описывающим двоих людей, которые
чуть раньше познакомились и обсуждают возможность заняться сексом. Оба
расположены, но ни у кого нет с собой презерватива, а поблизости нет магазина.
Женщина говорит, что она принимает противозачаточные пилюли и ничем не больна;
она предоставляет мужчине решать, продолжать или нет. После этого испытуемых
просят оценить вероятность незащищенного секса для них самих, если бы они оказались
на месте того человека. Угадаете, какая группа мужчин – те, кто читал, или те,
кто смотрел видео, – была более склонна отбросить осторожность? (Похоже,
юноши-студенты были тоже готовы убедить себя, что риск заражения болезнью,
передаваемой половым путем, обратно пропорционален привлекательности
потенциального полового партнера.) Мысль, что мужчина способен думать органом,
расположенным ниже головы, не нова, но данные экспериментов ярко демонстрируют,
до какой степени наши решения не вытекают из рациональных соображений. Голод,
вожделение, счастье, печаль – это все факторы, которые большинство из нас не
рассматривают. Тем не менее поступательное наложение технологий в ходе эволюции
гарантирует, что все они оказывают влияние, даже когда мы уверены в противоположном.
Несовершенство
нашей способности принимать решения становится особенно очевидным, когда мы
делаем нравственный выбор. Предположим, например, что вышедшая из-под контроля
вагонетка несется вперед и вот-вот убьет пять человек. Вы (и только вы) имеете
возможность повернуть переключатель и направить вагонетку по другой колее, и
тогда она убьет одного человека вместо пяти. Сделаете ли вы это?
Теперь
представим, что вы стоите на пешеходном мостике над треком, по которому несется
неуправляемая вагонетка. На этот раз спасение пяти людей требует от вас
столкнуть довольно крупного человека (значительно больше вас, так что не
предлагайте в качестве добровольца себя) с мостика в несущуюся тележку. Гигант,
если вы его толкнете, может погибнуть, но это позволит остальным пятерым
остаться в живых. Будет ли это правильно? Хотя большинство людей отвечает «да»,
если сценарий подразумевает изменение направления вагонетки, большинство людей
отказываются сталкивать кого-либо с мостика – хотя в обоих случаях пять жизней
будут спасены ценой одной.
В
чем же разница? Никто не знает этого наверняка, но отчасти ответ в том, что
второй сценарий затрагивает глубинные чувства; одно дело – переключить
неодушевленный механизм и как-то предотвратить столкновение, а другое – толкнуть
кого-то на смерть.
Один
исторический пример, как глубинные чувства влияют на нравственный выбор, – это
неофициальное перемирие, объявленное британскими и германскими солдатами на
Рождество 1914 года, в начале Первой мировой войны. Первоначальное намерение
было после этого возобновить сражения, но солдаты во время перемирия
перезнакомились; некоторые даже угощали друг друга рождественскими кушаньями.
Так они перестали видеть друг в друге врагов и начали воспринимать других как
людей из плоти и крови. В результате после рождественского перемирия солдаты
больше не могли убивать друг друга. Как сказал бывший президент Джимми Картер в
своей нобелевской лекции (2002) при получении премии мира: «Для того чтобы мы,
люди, приняли для себя бесчеловечность войны, необходимо было для начала
обесчеловечить наших врагов».
Как
проблема вагонетки, так и рождественское перемирие напоминают нам о том, что
наш нравственный выбор может казаться нам продуктом единого процесса
сознательных умозаключений. В конце концов, интуиция часто играет огромную
роль, независимо от того, говорим мы о чем-то будничном, например о новой
машине, или принимаем решения о человеческих жизнях.
Сценарий
с вагонеткой иллюстрирует это, показывая, как мы можем иметь два разных ответа
на один и тот же, по сути, вопрос, в зависимости от системы, в которой его
рассматриваем. Психолог Джонатан Хайдт попытался сделать шаг дальше, доказывая,
что у нас может быть сильная нравственная интуиция, даже если мы не можем
подкрепить ее отчетливым обоснованием. Рассмотрим, например, следующий
сценарий.
Джулия и Марк – брат и сестра. Они
путешествуют вместе по Франции, пока у них в колледже летние каникулы. Однажды
ночью они остаются вдвоем в домике на побережье. Они решают, что будет забавно
и интересно, если они попробуют заняться любовью. По крайней мере для обоих это
будет новый опыт. Джулия принимает противозачаточные таблетки, но Марк для
перестраховки все равно пользуется презервативом. Оба наслаждаются близостью,
но решают больше такого не повторять. Они держат случившееся той ночью в тайне,
что делает их еще ближе друг другу. Что вы думаете об этом? Хорошо ли, что они
это сделали?
Всякий
раз, когда я читаю этот отрывок, мне становится не по себе. Но почему на самом
деле это плохо? Вот как объясняет это Хайдт:
Большинство людей, которые слышат эту
историю, сразу же говорят, что заниматься любовью брату и сестре неправильно, и
после этого они ищут причины. Они указывают на опасности кровосмешения, только
чтобы вспомнить, что Джулия и Марк использовали два вида противозачаточных
средств. Они доказывают, что Джулия и Марк наверняка будут испытывать
эмоциональную боль, хотя история показывает, что ничего плохого с ними не
случилось. В конце концов многие люди говорят что-нибудь вроде: «Я не знаю, я
не могу объяснить, просто я знаю, что это неправильно».
Хайдт
называет этот феномен – когда мы чувствуем, что что-то неправильно, но не
способны объяснить почему, – нравственным шоком. Я считаю это иллюстрацией
того, с какой легкостью разделяется эмоциональное и рациональное. Нравственный
шок вызывается разрывом между нашей наследственной системой, которая в целом
особенно не анализирует детали, и разумной системой, которая последовательно
анализирует явления. Как это часто бывает, в случае конфликта наследственная
система побеждает: даже если мы знаем, что не в состоянии дать чему-то
подходящее объяснение, наше эмоциональное неприятие сохраняется.
Когда
вы заглядываете внутрь мозга с помощью современных технологий, вы находите
дальнейшие свидетельства того, что наши нравственные оценки происходят из двух
различных источников: на выбор людей в ситуации моральной дилеммы влияет то,
как они используют свой мозг. В экспериментальных попытках, таких как
упомянутые ранее, испытуемые, которые выбирают спасение пяти жизней ценой одной,
обычно полагаются на участки мозга, известные как дорсолатеральная предлобная
кора и задняя теменная кора, которая важна для сознательных умозаключений. В то
же время люди, которые решают спасти одного человека в ущерб жизни пятерых,
склонны полагаться скорее на участки лимбической коры, больше связанные с
эмоциями.[28]
Человеческий
мозг становится клуджем не оттого, что у нас есть две системы, а из-за способа,
которым эти две системы взаимодействуют. В принципе рассуждающая система должна
рассуждать – независимо и свободно от предрассудков эмоциональной системы.
Разумно спроектированная машина сознательных умозаключений должна
систематически искать в своей памяти релевантную информацию, все «за» и
«против», для того чтобы быть способной принимать систематические решения. Она
должна быть настроена одинаково и на несоответствие, и на соответствие и должна
быть чрезвычайно устойчивой в отношении нерелевантной информации (такой, как
заявления продавца, интересы которого наверняка расходятся с вашими). Эта система
должна быть уполномочена сопротивляться нарушениям своего плана. («Я на диете.
Нет шоколадному торту».) То, что мы имеем вместо этого, оказывается между двумя
системами – атавистической, рефлексивной системой, которая лишь отчасти
восприимчива к целям организма в целом, и рассуждающей системой (построенной из
негодных старых элементов, таких как контекстуальная память), которая плохо
приспособлена к независимым действиям.
Означает
ли это, что наши сознательные, рассудительные решения – всегда самые лучшие?
Ничего подобного. Как заметил Даниэль Канеман, рефлексивная система лучше в
том, что она делает, чем рассуждающая система в рассуждениях.
Наследственная система, например, исключительно восприимчива к статистическим
колебаниям – она веками отслеживает вероятность найти пищу или встретить
хищников в определенных местах. И хотя наша рассуждающая система может быть
осмотрительной, требуются большие усилия для того, чтобы заставить ее
функционировать по-настоящему надежно и сбалансированно. (Разумеется, это
неудивительно, если принять во внимание, что наследственная система
формировалась сотни миллионов лет, а сознательные рассуждения – недавнее
изобретение.)
Итак,
неизбежно существуют решения, для которых наследственная система приспособлена
лучше; в некоторых обстоятельствах она предлагает единственный реальный
вариант. Например, когда требуется принять мгновенное решение – разбить машину
или свернуть на следующую дорожку, – рассуждающая система слишком медлительна.
Точно так же там, где нам надо рассматривать много различных переменных,
бессознательное мышление – в подходящее время – может иногда превосходить
сознательное целенаправленное мышление; если ваша проблема требует всей полноты
картины, есть шанс, что может пригодиться наследственное, склонное к статистике
мышление. Как сказал Малкольм Гладуэлл в своей последней книге «Озарение»[29], «решения,
которые принимаются очень быстро, до определенной степени могут быть не хуже,
чем решения, принимаемые сознательно и рассудительно».
Тем
не менее мы не должны слепо доверять нашим инстинктам. Когда люди принимают
эффективные спонтанные решения, это обычно бывает потому, что у них есть
достаточный опыт обращения с подобными проблемами. В большинстве примеров
Гладуэлла, например, с куратором выставки, который внезапно распознает
подделку, озарения случаются у профессионалов, а не у любителей. Как отмечал
голландский психолог Ап Дийкстерхьюис, один из ведущих исследователей интуиции,
наша интуиция лучше всего проявляется в результате основательной работы подсознательной
мысли, отточенной годами опыта. Эффективные спонтанные решения (гладуэлловские
«озарения») часто представляют собой последний штрих в работе, которая уже
проделана. Когда мы сталкиваемся с проблемами, которые существенно отличаются
от того, с чем мы сталкивались раньше, сознательное рассуждение может быть
нашей первой и единственной надеждой.
Было
бы глупо постоянно отдавать сознательные умозаключения на откуп
бессознательной, рефлексивной системе, нередко уязвимой и необъективной. Точно
так же глупо было бы отказываться от наследственной рефлексивной системы: она
не совсем иррациональна, просто она менее обоснованная. В конечном счете
эволюция оставила нас с двумя системами, каждая из которых отражает разные
способности: рефлексивная система лучше справляется с привычными проблемами, а
рассуждающая – помогает думать более объективно.
Мудрость
приходит в итоге от понимания и гармонизации преимуществ и недостатков обеих
систем, распознания ситуаций, в которых наши решения, вероятно, не объективны,
и изобретения стратегий, преодолевающих эти недостатки.
5
Однажды
утром я пристрелил слона в моей пижаме.
Ума
не приложу, как он влез в мою пижаму.
Гроучо Маркс
She sells sea shells at the sea shore.
[Она продает морские ракушки на берегу моря.]
A pleasant peasant pheasant plucker
plucks a pleasant pheasant.
[Приятный деревенский перощип фазанов
ощипывает приятного фазана.]
От
подобных скороговорок язык заплетается.
С
точки зрения мартышки с вокабуляром, ограниченным тремя словами (грубо говоря, орел,
змея и леопард), человеческая речь может казаться волшебством. На самом же
деле язык полон странностей, причуд и несовершенств, начиная с того, как мы
произносим слова, и, заканчивая тем, как строим из них предложения. Мы берем
старт, останавливаемся, запинаемся. Мы меняем местами гласные, как досточтимый
Реверенд Уильям Арчибальд Спунер (1844-1930), превративший шекспировскую фразу
«one fell swoop» (одним махом) в «one swell foop».[31]Красивый лесоруб легко
превращается в лисиного крысоруба. И достаточно вместо grew up услышать
threw up, чтобы предложение «Все участники группы выросли в
Филадельфии» прозвучало как «Все участники группы блевали в Филадельфии».
Ошибки такого рода[32]
– словно тик головного мозга.
Для
ученого, занимающегося когнитивными процессами, главная сложность состоит в
том, чтобы выяснить, какие особенности действительно значимы. Многие из них –
просто банальности, развлекающие нас, но не отражающие глубинных структур
мышления. Например, словосочетание «подъездной путь», используемое для
обозначения частного куска дороги, ведущего от основной дороги к дому. По
правде говоря, мы по-прежнему подъезжаем по таким путям, но едва ли отмечаем
эту часть дороги как подъездную, поскольку она очень коротка; значение слова
стало другим после бума недвижимости и изменения наших представлений о
ландшафте. (Слово парк в парковой дороге не имеет никакого
отношения к парковке, а означает дорогу, идущую по парковой полосе – зеленой
местности с деревьями – и предусматривающую движение автомобилей.) Тем не менее
такие факты, как этот, ничего не говорят о нашем мозге, поскольку в других
языках словообразование может происходить более системно, и в немецком языке,
например, машины паркуются на Parkplatz.
Точно
так же, возможно, забавно, но не более того, отметить, что мы отлучаемся, чтобы
«помыть руки», в туалет без рукомойника или принимаем душ «в ванной комнате»,
даже если там нет ванны. Если на то пошло, в «комнатах отдыха»[33] никто не отдыхает. Но
наше нежелание пояснять, куда мы держим путь, когда сообщаем, что нам «надо
выйти», вовсе не дефект языка, а способ обойти острые углы и проявить
вежливость.
Некоторые
действительно интересные тонкости языка, однако, кроются глубже. И отражают они
не просто исторические курьезы разных языков, а фундаментальную истину о
создателях языка, а именно о нас с вами.
Рассмотрим,
например, тот факт, что все языки преисполнены двусмысленностей; не
обязательно намеренных («Мне трудно рекомендовать этого человека») или случайно
произносимых иностранцем (которому его шеф рекомендовал «попользоваться
горничной» в отеле), а тех, что обычные люди произносят совершенно случайно, и
иногда с катастрофическими последствиями. Один такой случай произошел в 1982
г., когда неоднозначный ответ пилота на вопрос о его позиции («на взлете») привел
к катастрофе, в которой погибли 583 человека; пилот имел в виду, что он «готов
к взлету», но служба контроля воздушного движения интерпретировала его слова
как «в процессе взлета».
Для
того чтобы быть совершенным, язык должен быть недвусмысленным (за исключением
разве умышленной неоднозначности), систематичным (а не субъективным),
стабильным (так чтобы, скажем, пожилые люди могли общаться со своими внуками),
не избыточным (чтобы не тратить время и энергию) и способным выразить любую из
наших мыслей.[34]
Каждый элемент звука такой речи неизменно произносится одинаково, каждое
предложение точно, как математическая формула. Как сказал ведущий философ XX
столетия Бертран Рассел:
В логически совершенном языке для каждого
простого понятия существует одно-единственное слово, а все, что не может быть
выражено простым понятием, выражается комбинацией слов, комбинацией,
разумеется, полученной из слов для простых вещей, входящих в нее, с одним
словом для каждого простого компонента. Язык такого рода был бы полностью
аналитическим и с первого взгляда демонстрировал бы логическую структуру
фактов, утверждаемых или отрицаемых.
Ни
один человеческий язык не достигает подобного совершенства. Рассел,
по-видимому, ошибался в первом пункте – для языка действительно очень удобно
(даже логично), допустить, чтобы домашнее животное называлось Фидо, собака,
пудель, млекопитающее и животное, – но даже в таком случае в
идеальном языке слова должны систематически соотноситься в значении и в звуке.
А это явно не тот случай. Слова ягуар, пантера, оцелот или пума, например,
звучат совершенно по-разному, и тем не менее все они относятся к кошачьим. При
этом едва ли всякое слово, созвучное со словом кот, – который, котомка,
катастрофа – имеет отношение к семейству кошачьих.
Тем
не менее в некоторых случаях языки кажутся избыточными (кушетка и софа
означают примерно один и тот же предмет мебели), а в других – неполными
(ни один язык не в состоянии передать тонкости запахов). Бывает, что мысли
кажутся вполне связанными, но поразительно плохо поддаются выражению.
Предложение «Как ты думаешь, кого бросил Джон?» (где ответ, скажем, Мэри, его
первая жена) грамматически правильно. Но, казалось бы, похожий вопрос: «Как ты
думаешь, бросила Мэри кого?» (где ответ – Джон) некорректен. (Лингвисты устали
объяснять этот феномен, но так трудно понять, почему возникает эта асимметрия;
подобных аналогий не встретишь в математике.)
Двусмысленность
между тем кажется правилом, а не исключением. Слово «крутой» может относиться и
труднопреодолимому подъему, и к отважному парню. А слово «удар» может означать
и сердечный приступ, и душевное потрясение, и резкое движение кулаком. Когда я
говорю: «Завтра я ему вставлю пистон», – это что за обещание: заняться его
оружием или отругать хорошенько? Даже самое короткое слово может восприниматься
двояко, вспомним знаменитое высказывание Билла Клинтона: «Это зависит от того,
какой смысл вкладывать в слово "есть"».[35] Между тем, даже когда
отдельные слова ясны, предложение в целом может быть непонятным. Означает ли
фраза «Положи книгу на полотенце на стол», что на полотенце находится книга,
которую надо положить на стол, или, что книгу надо положить на полотенце,
которое уже лежит на столе?
Даже
в таких языках, как латынь, которая кажется более систематическим языком, случаются
подобные двусмысленности. Например, поскольку подлежащее при сказуемом может
быть опущено, глагол третьего лица в единственном числе Amat может
стоять сам по себе, как полное предложение – что может означать и «он любит», и
«она любит». Философ IV века Августин, автор одного из первых трудов на тему
двойственности, в эссе, написанном по поводу кажущейся точности латинского
языка, отмечает: «Путаница из-за двусмысленности растет, как сорняки на
грядке».
Язык
не отвечает и другим нашим требованиям. Возьмем его избыточность. С точки
зрения максимизации коммуникации относительно усилий нет особого смысла в
повторах. Тем не менее английский язык полон чрезмерности. Мы употребляем такие
плеоназмы как null and void [недействительный], cease and desist [прекратить
и воздерживаться впредь], for all intents and purposes [фактически]. И
наконец, мы прибавляем частицу -s к глаголам третьего лица в единственном
числе, которую используем, когда можем обойтись и без нее.
Частица
-s в he buys [он покупает] относительно they buy [они покупают]
дает лишнюю информацию, можно просто опустить эту частицу и положиться на одно
существительное. В предложении These three dogs are retrievers [Эти три
собаки – ретриверы] – множественное число передается не один раз, а пять – в
употреблении местоимения множественного числа (these, а не this
), в числительном (three ), в существительном во множественном числе (dogs,
а не dog ), в глаголе (are, а не is ) и, наконец, в
последнем существительном (retrievers, а не retriever ). В таких
языках, как итальянский или латынь, в которых принято опускать существительное,
маркер множественного числа в третьем лице имеет смысл. В английском же, где
требуется подлежащее, маркер множественного числа в третьем лице часто ничего
не добавляет. При этом фраза John's picture [фотография Джона], в
которой используется притяжательная частица -'s неоднозначна по крайней мере в
трех отношениях. Относится ли она к фотографии, которую сделал Джон, сняв
кого-то (скажем, сестру)? Или это фото Джона, сделанное кем-то другим (скажем,
его сестрой)? Или это фотография кого-то (скажем, голубоногой олуши), сделанная
кем-то (допустим, фотографом из National Geographic ), и Джону просто
посчастливилось ею обладать?
Далее
неясность. В предложении «Сегодня на улице тепло» нет однозначной границы между
тем, что считать теплом, а что не считать теплом. Это 21 градус, или 20, 19,
18? Я могу продолжать сбрасывать градусы, только где мы проведем границу? Или
возьмем такое слово, как «куча». Сколько камней надо набросать, чтобы
получилась куча? Философы любят развлекаться следующей головоломкой, известной
как парадокс кучи:
Очевидно, что один камень не образует кучи.
Если одного камня недостаточно, чтобы счесть его кучей, тогда недостаточно и
двух, поскольку добавление одного не превращает его в кучу. А если два камня не
делают кучи, три камня тоже не будут – и так по логике можно продолжать до
бесконечности. Проделаем то же самое в обратном направлении: человек с 10000
волосинок безусловно не лысый. Аналогично, вырвав один волос у нелысого
человека, мы не сделаем его лысым. Так, мужчина с 9999 волосинками не может
считаться лысым, то же самое касается и человека с 9998. Следуя этой логике до
ее крайности, волосок за волоском, мы в конечном счете не сможем назвать «лысым»
человека без единой волосинки.
Если
бы пограничные условия в отношении слов были точнее, никому не пришло бы в
голову развлекаться подобными умозаключениями (заведомо нелогичными).
Вдобавок
к сложности – нельзя отрицать, что языки как-никак со временем меняются.
Санскрит породил хинди и урду; из латыни возникли французский, итальянский,
испанский и каталонский. Западногерманские языки дали голландский, немецкий,
идиш, фризский. Английский, соединяющий англосаксонскую односложность (Halt!
– Стоп!) с греко-латинской многосложностью (Abrogate all locomotion! –
Прекратить движение!) – приемный ребенок французского и западногерманских,
немного деревенский, немного рок-н-ролльный.
Даже
когда такие институты, как Французская академия, пытаются формировать языковые
нормы, язык остается неуправляемым. Академия силится избавить французский язык
от таких слов английского происхождения, как гамбургер, драгстор, уик-энд,
стриптиз, пуловер, ти-шот, чуингам, кавергерл, – без малейшего успеха. Вместе
со стремительным развитием популярных новых технологий – таких как iPod,
подкасты, сотовые телефоны, DVD – мир нуждается в новых словах каждый день.[36]
Большинство
из нас редко замечают нестабильность и неопределенность языка, даже когда наши
слова и предложения неточны, поскольку мы можем дешифровать язык, домысливая
то, что нам говорит грамматика, нашим знанием мира. Но сам факт, что мы
можем полагаться на нечто отличное от языка – например, общие представления –
не оправдание. Когда я «знаю, что вы имеете в виду», даже если вы не говорили
этого, язык демонстрирует свою несостоятельность. И когда языки в целом
проявляют одни и те же проблемы, это отражает не только историю культуры, но и
внутренние процессы, происходящие среди людей, которые осваивают и используют
их.
Некоторые
из этих фактов, касающихся языка человека, известны по крайней мере два
тысячелетия. Платон, например, в своем диалоге «Кратил» выражал
обеспокоенность, что «утонченный модный язык современности исказил, затуманил и
полностью изменил первоначальное значение слов». Желая хотя бы чуть большей
систематичности, он предлагал, чтобы «слова по возможности напоминали то, что
они обозначают… Если бы мы могли всегда или почти всегда использовать подобие,
что в высшей степени уместно, это было бы лучшим состоянием языка».
Со
времен мистика XII столетия Хильдегарды Бингенской, если не раньше, некоторые
отважные люди пытались как-то решить эту проблему и создать более разумный язык
с нуля. Одна из наиболее отважных попыток была предпринята английским
математиком Джоном Уилкинсом (1614-1672), который обратился к идее Платона о
систематизации слов. Почему, например, кошки, тигры, львы, леопарды, ягуары и
пантеры называются по-разному при их очевидном сходстве? В своей работе 1668
года «Эссе о языке подлинного характера и философии» Уилкинс взялся создать
систематический «неслучайный» лексикон, доказывая, что слова должны отражать
отношения между вещами. В процессе работы он составил таблицу из 40 основных
понятий – от количественных, таких как величина, пространство, мера, до
качественных, таких как привычка и болезнь, после чего разделил и многократно
подразделил каждое понятие. Слово de относилось к элементам (земля,
воздух, огонь и вода), слово deb – к огню, первому (по схеме Уилкинса)
из элементов, deba – к части огня, а именно к пламени, deba – к
искре и т.д., таким образом, каждое слово было тщательно (и предсказуемо)
структурировано.
Большинство
языков не страдает озабоченностью таким порядком, новые слова появляются в
языках без всяких правил. В результате, когда мы, говорящие на английском,
видим редкое слово, скажем оцелот, мы никак не можем угадать его значение. Это
кошка? Или птица? А может быть, маленький океан? Если мы не говорим на языке
науатль (семейство языков Северной Мексики, включая ацтекский), мы и понятия не
имеем, от какого слова оно происходит. Там, где Уилкинс обещал систематизацию,
у нас есть только этимология, история происхождения слова. Оцелот, кстати, это
дикая кошка, название которой происходит из Северной Мексики; южнее родилось
слово «пума» – кошка из Перу. Слово «ягуар» родом из языка племен Тупи из
Бразилии. Между тем слова «леопард», «тигр» и «пантера» появились в Древней
Греции. С точки зрения ребенка, каждое слово – это новый вызов. Даже для
взрослых слова, которые встречаются редко, трудно запомнить.
В
числе попыток усовершенствовать язык лишь одна привела к какому-то результату –
это эсперанто, созданный Людовиком Лазарем Заменгофом, родившимся 15 декабря
1859 года. Подобно Науму Хомскому, отцу современной лингвистики, Заменгоф был
сыном специалиста по ивриту. К подростковому возрасту маленький Людовик освоил
французский, немецкий, польский, русский, иврит, идиш, латынь и греческий.
Движимый любовью к языкам и верой в то, что универсальный язык способен
смягчить многие социальные болезни, Заменгоф поставил своей целью создать такой
язык, который легко и быстро смог бы освоить любой человек.
Saluton! Cu vi parolas
Esperanton? Mia nomo estas Gary.
[Привет! Вы говорите на
эсперанто? Меня зовут Гари].
Несмотря
на все усилия Заменгофа, эсперанто используется сегодня (с разной степенью
владения) всего миллионом людей, одной десятой процента всего населения мира.
Что делает один язык более предпочтительным по сравнению с другим – по большей
части вопрос политики, денег и влияния. Французский, бывший когда-то наиболее
распространенным на Западе, был вытеснен английским не потому, что английский в
чем-то лучше, а потому что Британия и Соединенные Штаты стали более мощными и
влиятельными, чем Франция. Как сказал преподаватель идиша Макс Вайнрайх: «А
shprakh iz a dialect mitan armey un aflot» – «Язык – это диалект, у
которого есть армия и флот».
При
отсутствии государственных вложений в эсперанто, вероятно, не удивительно, что
он не вытеснил английский (или французский, испанский, немецкий, китайский,
японский, хинди или арабский и т.д.) как наиболее широко распространенный язык
в мире. Но тем не менее поучительно сравнить его с человеческими языками,
которые возникли естественным образом. В некоторых отношениях эсперанто – это
воплощенная мечта. В то время как в немецком языке, например, существуют
десятки способов образования множественного числа, в эсперанто – всего один.
Всякий человек, изучающий язык, вздохнет с облегчением.
Тем
не менее эсперанто обзавелся и собственными проблемами. Из-за жестких правил
относительно ударения (всегда на предпоследнем слоге), нет возможности понять,
состоит ли слово senteme из sent+em+e («чувство» + «склонность к» + окончание
придаточного) или из sen+tem+e («без» +«тема» + окончание придаточного). К
примеру, предложение La professor senteme parolis dum du horoj может
означать как «Профессор выступал с чувством в течение двух часов», так и
(ужас!) «Профессор пространно рассуждал в течение двух часов». Предложение Estis
natata la demono de la viro трижды неоднозначно; оно может означать и
«Человек поразил демона», и «Из человека изгнали демона», и «Человеческий демон
был поражен». Очевидно, одно дело – избавиться от неупорядоченности, и другое –
от неоднозначности.
Компьютерные
языки не страдают этими проблемами; в паскале, си, фортране, лиспе не
встречаются ни разнузданная нерегулярность, ни извращенная двусмысленность – и
это показывает, что в принципе языки не обязаны быть неоднозначными. В хорошо
сконструированной программе ни один компьютер не сомневается по поводу того,
что следует делать дальше. По самому замыслу языка, каким они написаны,
компьютерные программы никогда не оказываются в растерянности.
И
все-таки какими бы ясными ни были компьютерные языки, никто не говорит на си,
паскале или лиспе. Возможно, Джава – современный лингва-франка компьютерного
мира, но я наверняка не стану говорить на нем о погоде. Разработчики
программного обеспечения рассчитывают на специальные текстовые процессоры,
которые структурируют текст, подцвечивают и отслеживают слова и скобки, именно
потому, что структура компьютерного языка кажется такой неестественной для
человеческого мозга.
Насколько
я знаю, всего один человек когда-либо пытался создать недвусмысленный,
математически совершенный человеческий язык, не просто в виде вокабуляра, но и
в конструкциях предложений. В конце 1950-х лингвист по имени Джеймс Кук Браун
разработал язык, известный как логлан, сокращенно от «logical language»
(логичный язык). Вдобавок к систематическому словарю Уилкинса этот включает 112
«маленьких слов», которые управляют логикой и структурой. Многие из этих
маленьких слов имеют английские эквиваленты (tui – обычно, tue –
более того, tai – прежде всего), но действительно важные слова
соотносятся с предметами как скобки (которые во многих устных языках
отсутствуют) и технические инструменты для выбора конкретных людей, упомянутых
ранее в разговоре. Английское слово он, например, переводится как da,
если оно относится к первому упомянутому участнику общения, de –
если ко второму, di – если к третьему, do – если к четвертому,
и du – если к пятому. Эта система может показаться неестественной, но
она устраняет существенную путаницу предшествующих местоимений. (Американский
язык жестов использует физическое пространство, чтобы представлять что-то
подобное, делая знаки в разных местах, в зависимости от того, к какому субъекту
они относятся). Чтобы увидеть, почему это полезно, рассмотрим английское
предложение: «Он бежит, и он идет». Оно может описывать как одного человека,
который и бежит, и идет, или двух разных людей, один из которых бежит, а другой
идет; и наоборот, в логлане первый будет отображен недвусмысленно как Da
prano I da dzoru, а последний однозначно как Da prano I de dzoru.
Но
логлан внедрился даже меньше, чем эсперанто. Несмотря на его «научное»
происхождение, у него нет носителей. На своем сайте Браун сообщает: «В
институте логлана студенты учились языку прямо у меня (а я у них!). Я счастлив
сообщить, что ежедневно поддерживал беседу только на логлане в течение 45 минут
и больше». Однако, насколько мне известно, большего не достиг никто. При всех
отличительных особенностях и погрешностях английского языка, он дается человеку
гораздо легче. Мы не смогли бы выучить совершенный язык, если бы и пытались.
Как
мы уже видели, отличительные особенности часто складываются в ходе эволюции,
когда функция и история приходят в противоречие, когда хорошая идея не в ладах
с материалом, который под рукой. Позвоночник человека, большой палец лапы панды
(сформированный из запястной кости) – неудачные решения, которые обязаны скорее
эволюционной инерции, чем принципам хорошего дизайна. Точно так же и с языком.
В
такой сборной солянке, как язык, по крайней мере три основных источника его
особого характера возникают из трех различных противоречий: 1) контраст между
способом, которым наши предки извлекали звуки, и способом, каким мы в идеале
хотели бы делать это; 2) способ, каким наши слова построены на понимании мира
приматами, и 3) порочная система памяти, которая худо-бедно работает, но мало
что дает языку. Каждого из них было бы достаточно для того, чтобы язык
оставался несовершенным. А вместе они делают язык окончательным клуджем, т.е.
прекрасным, неопределенным и гибким и тем не менее откровенно кустарным.
Рассмотрим
сначала сами звуки языка. Вероятно, не случайно, что язык эволюционировал
преимущественно как носитель звука, а не, скажем, изображения или запаха. Звук
передается на достаточно длинные дистанции, и это позволяет коммуницировать в
темноте, даже с теми, кого не видишь. Хотя во многом то же самое можно сказать
о запахах, мы способны модулировать звук гораздо быстрее и точнее, быстрее, чем
даже самые изощренные скунсы способны модулировать запах. Аналогично речь
передает информацию скорее, чем физическое движение; она распространяется
примерно вдвое быстрее, чем язык жестов.
Тем
не менее, если бы я строил систему голосовой коммуникации с нуля, я бы начал с
iPod: с цифровой системы, которая могла бы одинаково хорошо воспроизводить
любой звук. Природа же начала с трахеи. Превращение трахеи в средство передачи
звука было немалым подвигом. Дыхание производит воздух, но звук – это
модулированный воздух, вибрации, производимые с определенной частотой.
Голосовая система, подобная системе Руба Гольдберга, состоит из трех
фундаментальных частей: респирации, фонации и артикуляции.
Респирация
– это дыхание. Вы вдыхаете воздух, ваша грудная клетка расширяется, ваша
грудная клетка сдавливается, и поток воздуха выходит наружу. Затем этот поток
воздуха стремительно разделяется голосовыми складками на меньшие струи воздуха
(фонация), со скоростью примерно 80 раз в секунду для баритона, такого как
Джеймс Эрл Джонс, 500 раз в секунду у маленького ребенка. Этот более или менее
постоянный источник звука фильтруется так, что проникает только подмножество из
его многих частот. Для тех, кто любит визуальные аналогии: представьте, как
создается прекрасный белый свет, а затем применяется фильтр, так что через него
просвечивает лишь часть спектра. Речевой тракт работает по аналогичному
принципу «источника и фильтра». Губы, кончик языка, тело языка, нёбная
занавеска (также известная как мягкое нёбо) и голосовая щель (просвет между
голосовыми складками) известны как артикуляторы. Посредством варьирования своих
движений эти артикуляторы формируют необработанный звуковой поток в то, что мы
называем речью: вы вибрируете своими голосовыми связками, когда говорите «ба»,
а не «па»; вы смыкаете губы, когда говорите «ма», и двигаете язык к зубам,
когда говорите «на».
Респирация,
фонация, артикуляция свойственны не только людям. С тех пор как рыбы вышли на
сушу, практически все позвоночные от лягушек до птиц и млекопитающих используют
голос для коммуникации. Эволюция человека, однако, зависела от двух ключевых
моментов: опускания нашей гортани (что присуще не только людям, но все-таки в
животном мире редкость) и возросшего контроля над совокупностью артикуляторов,
формирующих звуки речи. И то и другое имело последствия.
Возьмем
для начала гортань. У большинства видов гортань состоит из одной длинной
трубки. На определенном этапе эволюции наша гортань опустилась. Более того, по
мере того как мы поменяли положение на вертикальное, она развернулась на 90
градусов, разделилась на две трубки, более или менее одинаковой длины, что
наделило нас значительно большим контролем над звукоизвлечением – и радикально
увеличило риск задохнуться. Это впервые отметил Дарвин: «Каждая частичка еды и
питья, которые мы проглатываем, должна миновать отверстие в трахею с некоторым
риском попадания в легкие – все мы подвержены этому».
Возможно,
вы думаете, что немного возросший риск задохнуться – небольшая плата, а
возможно, не думаете. Но это определенно не должно было так быть;
дыхание и речь могли опираться на различные системы. Напротив, такая
предрасположенность к удушению – это еще один признак того, что эволюция
пользовалась подручными средствами. В результате трахея, будучи голосовым
трактом, выполняет двойную обязанность – иногда с фатальными последствиями.
Так
или иначе, низко расположенная гортань – всего лишь полдела. Реальным
предвестником речи стал существенный контроль над нашими артикуляторами. Но и
эта система – во многом клудж. Во-первых, голосовой тракт лишен изящества iPod,
способного воспроизводить любые звуки одинаково хорошо, начиная от гитар и флейт
Моби до хип-хопа с имитацией автокатастроф и выстрелов. Голосовой тракт,
напротив, предназначен только для произнесения слов. Все мировые языки вышли из
90 звуков, а каждый конкретный язык использует не более половины этого числа –
абсурдно малое количество, если подумать о множестве разных звуков, которые
способно различить ухо.
Представьте,
например, человеческий язык, который обозначает объекты посредством звуков,
которые они издают. Своего любимого пса Ари я бы идентифицировал, воспроизводя
его лай (woof), а не называя его собакой. Но хитросплетение из респирации,
фонации и артикуляции не очень-то на это способно; даже там, где, как
предполагается, языки обозначают объекты посредством издаваемых ими звуков –
феномен, известный как ономатопея – т.е. «звуков», которые мы считаем похожими
в общем-то на слова. Прекрасное английское слово woof, некое
пересечение, скажем, между wool (шерсть) и hoof (копыто), но
оно неправильно воспроизводит звук, который издает Ари (да и любая другая
собака). И сравнимые слова в других языках все звучат по-разному, ни одно не
похоже на woof (лай) и bark (лаять). Французская собака лает – уа,
уа ; албанская – хэм, хэм; греческая – гав, гав; корейская
– манг, манг, итальянская – бау, бау; немецкая – вау, вау. Все
языки создают собственные звуки. Почему? Потому что наш голосовой тракт –
неуклюжая штуковина, пригодная лишь для того, чтобы выдавать звуки речи. И мало
на что еще.
Скороговорки
заставляют наши артикуляторы исполнять сложный танец. Недостаточно закрыть рот
или двигать языком установленным образом; мы вынуждены координировать каждое
движение очень синхронно. Два слова могут требовать совершенно одинаковых
физических движений, исполняемых немного в разной последовательности. Слова mad
и ban, например, требуют одинаковых четырех движений. Нёбная
занавеска (мягкое нёбо) расширяется, кончик языка приближается к альвеолам,
тело языка расширяется в глотке, губы смыкаются – но в одном из этих слов все
это производится рано (mad), а в другом поздно (ban) . По мере
ускорения речи возникают проблемы – становится труднее и труднее
синхронизировать звуки во времени. Вместо того чтобы встроить отдельный таймер
(часы) для каждого движения, природа взваливает на один таймер двойную (тройную
или четырехкратную) работу.
И
этот таймер, который развивался задолго до языка, действительно хорош только
для очень простых ритмов: сохранение элементов либо точно в фазе
(аплодисменты), либо точно не в фазе (чередование шагов при ходьбе, чередование
гребков при плавании и т.д.). Все это прекрасно для ходьбы или бега, но не в
том случае, если вам нужно исполнять действие с более сложным ритмом.
Попытайтесь, например, стучать правой рукой в два раза быстрее, чем левой. Если
вы делаете это медленно, это должно быть нетрудно. А теперь постепенно
наращивайте темп. Рано или поздно вы обнаружите, что сбиваетесь с ритма,
переходя от соотношения 2:1 к соотношению 1:1.
Так
что вернемся к скороговоркам. Произнесение слов she sells должным
образом подразумевает сложную координацию движений, сродни отбиванию ритма 2:1.
Если сначала вы скажете she, а потом sells громко, медленно и
раздельно, вы увидите, что звуки |с| и |щ| имеют нечто общее – движение кончика
языка, только при произнесении |щ| участвует еще и тело языка. Таким образом,
для того чтобы правильно произносить слова she sells, требуется
координировать два движения кончиком языка с одним движением тела языка. Когда
вы говорите слова медленно, все в порядке, но скажите их быстрее, и ваши
внутренние часы начнут барахлить. Соотношение в конце концов перейдет к 1:1, и
в итоге вы станете двигать телом языка в ответ на каждое движение кончика, а не
на каждое второе. И вуаля – she sells превращается в she shells. Короче
говоря, ваш язык «заплетается» не из-за мышцы, а из-за наследственных ограничений
синхронизации.
Специфика
природы нашей артикуляторной системы и то, как она эволюционировала, вызывают
еще одно последствие: соотношение между звуковыми волнами и фонемами
(наименьшими различимыми звуками, такими как |с| и |а|), гораздо сложнее, чем это
необходимо. Как наше произнесение данной последовательности букв зависит от
лингвистического контекста (подумайте, как вы произносите ough, когда
читаете название книги д-ра Сьюса The Tough Coughs As He Ploughs the Dough
), так и способ нашего произнесения конкретного лингвистического элемента
зависит от звуков, идущих перед ним и после. Например, звук |с| произносится
по-разному в слоге -си (губы растянуты), но иначе в слоге -су
(губы округлены). Это делает освоение речи более трудной работой, чем могло бы
быть в противном случае. (Этим же частично объясняется сложность проблемы
компьютерного распознавания голоса.)
Зачем
нужна такая сложная система? И здесь виновата эволюция; когда-то она вынудила
нас производить звуки посредством артикуляторной хореографии, единственный
способ поддерживать скорость коммуникации был – срезать углы. Вместо того чтобы
произносить каждую фонему как отдельный различимый элемент (как это делает
простой компьютерный модем), в нашей речевой системе работа над звуком номер два
начинается в момент, пока еще идет работа над звуком номер один. Так, прежде
чем я начну произносить h в слове happy (счастливый), мой язык
уже пристраивается в позицию ожидания a. Когда я тружусь над a, мои
губы уже готовятся к произнесению pp, а когда я на pp, я двигаю
язык, готовясь к y .
Этот
танец позволяет поддерживать скорость, но требует большой практики и может
усложнить интерпретацию месседжа.[37]
Что хорошо для контроля над мышцами, не обязательно хорошо для слушателя. Если
слова Джона Фогерти «There is a bad moon on the rise» («Восходит скверная
луна») вы ошибочно расслышите как «There is a bathroom on the right» («Ванная
комната справа»), быть по сему.[38]
С точки зрения эволюции, система речи, которая работает большую часть времени,
уже достаточно хороша, и в этом все дело.
В
каждом поколении старики ворчат, что их дети и внуки говорят неправильно. Огден
Нэш в стихотворении «Плач по умирающему языку» написал так:
Coin brassy words at will, debase the
coinage;
We are in an if-you-cannot-lick-them-join
age;
A slovenliness provides its own excuse
age,
Where usage overnight condones
misusage.
Farewell, farewell to my beloved
language,
Once English, now a vile
orangutanguage.
Слова, что деньги: падает их курс;
В наш век – не можешь изменить других – меняй
свой вкус;
Расхлябанность не ждет благословенья;
Употребленье слов – сплошь злоупотребленье,
Прощай, возлюбленный, прощай, неотвратим
конец твой близкий,
Орангутангским стал язык, когда-то звавшийся
английским.
В
компьютерных языках слова фиксированы в своих значениях, но в человеческих –
они постоянно меняются; у одного поколения плохой значит «плохой», а у
следующего поколения плохой значит «хороший». Почему языки могут так
быстро меняться со временем?
Отчасти
причина в том, как наши долингвистические предки привыкали в ходе эволюции
думать о мире: не как философы или математики, точно выверяя соотношения, а как
животные, в постоянной спешке, часто принимая решения, которые скорее более или
менее подходят, чем определенно правильны.
Посмотрим,
например, что может случиться, если вы, гуляя по парку, увидите ствол дерева;
очень возможно, вы придете к выводу, что смотрите на дерево, даже если это
дерево такое высокое, что вы даже не можете различить листья наверху. Эту
привычку делать мгновенные суждения, построенные на неполной информации (нет
листьев, нет корней, просто ствол, и все же мы делаем вывод, что увидели
дерево), мы можем назвать логикой «частичного совпадения».
Логической
противоположностью, конечно, будет дождаться, пока мы увидим весь предмет;
назовем это «полным совпадением». Как вы можете себе представить, тот, кто ждет
до тех пор, пока увидит дерево целиком, никогда не ошибается, но в то же время
рискует не заметить очень много настоящих деревьев. Эволюция награждала тех,
кто скор на решения, а не тех, кто осмотрителен.
Хорошо
ли это или плохо, язык полностью унаследовал эту систему. Вы можете думать о
стуле, например, как о чем-то с четырьмя ножками, спинкой и горизонтальной
перекладиной для сидения. Но, как обнаружил философ Людвиг Витгенштейн
(1889-1951), в реальном мире редко представления определяются с такой
точностью. Бобовые пуфы, например, тоже считаются стульями, хотя у них нет ни
выраженной спинки, ни каких-либо ножек.
Я
называю свой стакан с водой a glass (стекло), несмотря на то что он
пластиковый, и величаю свою начальницу a chair (стул) of my department, хотя,
честно говоря, она просто сидит на стуле. Лингвист или филолог употребляет
слово дерево для обозначения схемы на странице просто потому, что она
имеет разветвляющуюся структуру, а не потому, что она растет, размножается и в
ней происходит фотосинтез. Мы называем head (голова) лицевую сторону монеты, и
tail (хвост) – оборотную. Хотя голова там всего лишь изображена, а уж хвостом
точно никто не виляет. Достаточно лишь минимальной связи, поскольку слова
подчиняются наследственной внутренней логике частичного соответствия.
Другая
особенность языка, значительно более тонкая, связана с такими словами, как some
(некоторый, несколько), every (каждый, все) и most (большинство),
называемыми лингвистами «квантификаторами», поскольку они определяют
количество, отвечая на такие вопросы, как «How much?» и «How many?»: some
water (немного воды), every boy (все мальчики), most ideas (большинство
идей), several movies (несколько фильмов).
Хитрость
тут в том, что вдобавок к квантификаторам у нас есть другая целая система,
делающая нечто подобное. Эта вторая система доносит посредством того, что
лингвисты называют дженериками, некие туманные, обычно правильные утверждения,
такие как: «У собаки четыре ноги», «Книги в мягкой обложке дешевле книг в
твердом переплете». Совершенный язык мог придерживаться только первой
системы, используя ясные квантификаторы, а не дженерики. Отчетливо
квантифицированное предложение, как «У каждой собаки четыре ноги», содержит
ясное, твердое утверждение, не обещающее исключений. Мы знаем, как убедиться в
том, верно ли это. Либо все собаки в мире имеют четыре ноги, и в таком случае
это предложение верно, либо по крайней мере у одной собаки не четыре ноги, и
тогда предложение неверно – вот и все. Даже такой квантификатор, как слово some,
совершенно очевидно при таком применении; some должно означать
более одного и (прагматически) не должно означать every.
Дженерики
же – совершенно другое дело, во многих отношениях они существенно менее точны,
чем квантификаторы. Совершенно непонятно, сколько собак должно иметь четыре
ноги, прежде чем утверждение «У собаки четыре ноги» можно считать правильным, и
сколько собак должно продемонстрировать три ноги, прежде чем мы решим, что это
утверждение неверно. Что же касается того, что «Книги в мягкой обложке дешевле
книг в твердом переплете», большинство из нас примут это утверждение как
справедливое просто в силу здравого смысла, даже зная, что множество книг в мягкой
обложке (скажем, импортные) дороже многих книг в твердом переплете (например,
уцененные бестселлеры, напечатанные большими тиражами). Мы согласны с
утверждением «Москиты переносят вирус Западного Нила», хотя всего один процент
москитов является переносчиками вируса, но при этом мы не согласны с
утверждением «У собак пятнистая расцветка», хотя это относится ко всем
далматинцам.
Языки
программирования не допускают такой неточности, у них есть способы
представления формальных квантификаторов ([это делается вновь и вновь, пока не
проверена каждая база данных]), но нет способа выражения дженериков вообще.
Человеческие языки имеют свои особенности – и граничат с избыточностью – в силу
того, что они традиционно используют обе системы, дженерики и более формальные
квантификаторы.
Зачем
же нам обе системы? Сара-Джейн Лесли, молодой философ из Принстонского
университета, предложила возможный ответ. Расхождение между дженериками и
квантификаторами может отражать водораздел в нашей способности к умозаключениям
– между быстрой автоматической системой, с одной стороны, и более формальной,
рассуждающей системой – с другой. Формальные квантификаторы опираются на нашу
рассуждающую систему (которая, когда мы стараемся, позволяет нам рассуждать
логически), в то время как дженерики вытекают из нашей наследственной
рефлексивной системы. Дженерики, как она утверждает, представляют собой
лингвистическую реализацию наших более древних, менее формализованных
познавательных систем. Интересно, что наше ощущение дженериков «свободно» и в
другом смысле; мы готовы воспринимать как истину дженерики вроде «Акулы
атакуют пловцов» или «Питбули нападают на детей», хотя такие
случаи статистически очень редки, только когда те очень ярки или заметны, и
точно такой же реакции мы можем ожидать от нашей автоматической, менее
рассуждающей системы.
Далее
Лесли предполагает, что дженерики осваиваются с детства, до формальных
квантификаторов; более того, они могли и в развитии языка появиться раньше. По
меньшей мере один современный язык (Пираха, на котором говорят в бассейне
Амазонки), похоже, использует дженерики, а не формальные квантификаторы. Все
это наводит на мысль еще об одной сфере, в которой конкретные детали
человеческих языков зависят от особенностей эволюции нашего мозга.
В
силу всего изложенного не думаю, чтобы многие лингвисты были убеждены в том,
что язык – истинный клудж. Слова – одно дело, предложения – другое; даже если
слова неуклюжи, единственное, что интересует лингвистов, – синтаксис, клей,
соединяющий слова вместе. А может ли быть так, что слова бессистемны, а
грамматика – иная, «почти совершенная» или «оптимальная» система для связи
звуков и смысла?
В
последние несколько лет Наум Хомский, основатель и лидер современной
лингвистики, взялся доказывать именно это. В частности, Хомский задался
вопросом, может ли язык (под которым он подразумевает преимущественно синтаксис
предложений) приблизиться «к тому, что сконструирует некий суперинженер, при
условии соответствия языковым способностям». Такие лингвисты, как Том Васов и
Шалом Лаппин, отмечали, что в предположении Хомского есть явная
двусмысленность. Что значит быть совершенным или оптимальным применительно к
языку? То, что он может выразить нечто такое, что кто-то может пожелать
сказать? То, что он – наиболее эффективное возможное средство получения
желаемого? Или что язык – самая логичная система коммуникации, которую кто-либо
может вообразить? Трудно понять, как язык в данных условиях может рассчитывать
на столь огромные полномочия. Неоднозначность языка, например, кажется необязательной
(как показали компьютеры), и язык действует и не логично, и не эффективно
(только подумайте, сколько лишних усилий часто требуется для того, чтобы
пояснить, что означают наши слова). Если бы язык был совершенным средством
коммуникации, бесконечно эффективным и выразительным, не думаю, чтобы мы так
часто нуждались в «паралингвистической» информации, передаваемой жестами, чтобы
донести смысл.
Оказывается,
Хомский на самом деле имеет в виду другое. Он просто не считает язык
совершенным инструментом коммуникации; напротив, он доказал, что вообще
ошибочно думать о языке в контексте его эволюции «для» целей коммуникации.
Скорее, когда Хомский говорит, что язык почти оптимален, похоже, он имеет в
виду, что его формальная структура удивительно изящна, в таком же
смысле, в каком изящна теория струн. В теории струн предполагается, что
сложность физики можно выразить небольшим набором нескольких основных законов.
Точно так же Хомский с начала 1990-х пытался выразить то, что рассматривает как
сверхсложность языка, посредством небольшого количества законов.[39] Основываясь на
этой идее, Хомский и его соратники зашли так далеко, что предположили: язык
представляет собой некий вид «оптимального решения… проблемы связи
сенсорно-моторной и концептуально-целенаправленной систем» (или, грубо говоря,
связи звука и смысла). Они предположили, что язык, несмотря на очевидную
сложность, возможно, нуждался лишь в одном эволюционном усовершенствовании
того, что было унаследовано от приматов, а именно во введении элемента, известного
как «рекурсия».
Рекурсия
– это способ построения больших структур из меньших. Подобно математике, язык –
это потенциально бесконечная система. Как вы можете увеличивать число, добавляя
единицу (триллион плюс один, гуголплекс плюс один и т.д.), так и предложение
можно делать длиннее, добавляя новую клаузулу. Мой любимый пример – слова
Максвелла Смарта из телесериала «Напряги извилины» (Get Smart): «Верите ли вы,
что знаете, что я знаю, что вы знаете, где спрятана бомба?» Каждая
дополнительная клаузула требует очередного цикла рекурсии.
Нет
сомнений, что рекурсия или нечто подобное – важнейший аспект человеческого
языка. Тот факт, что мы можем соединять небольшой элемент структуры (человек)
с другим (который поднялся на холм), чтобы сформировать более сложный
элемент структуры (человек, который поднялся на холм) , позволяет нам
произвольно создавать сложные предложения с удивительной точностью (Человек
с ружьем – это тот, который поднялся на холм, а не тот, кто уехал на машине). Хомский
и его коллеги даже предположили, что рекурсия может быть «единственным
свойственным только человеку компонентом способности говорить».
Ряд
ученых очень критически отнеслись к радикальной идее. Стивен Линкер и лингвист
Рей Джекендофф доказали, что рекурсию можно найти и в иных аспектах мышления
(таких, как процесс, посредством которого мы воспринимаем сложные объекты,
состоящие из узнаваемых более мелких частей). Между тем специалист по приматам
Дэвид Премак выдвинул идею, что хотя рекурсия – отличительная особенность человеческого
языка, едва ли это единственное, что выделяет человеческий язык из других форм
коммуникации. И это не значит, что шимпанзе могут говорить на языке, в котором
нет лишь рекурсии, а в остальном похожем на человеческий (который может
представлять собой язык без таких сложных встроенных конструкций).[40] Впрочем, я хотел
бы пойти дальше и посмотреть, что мы усвоили относительно природы эволюции и
человека, чтобы взглянуть на все с неожиданного ракурса.
Камень
преткновения в том, что лингвисты называют синтаксическим деревом, которое
показано на схеме:
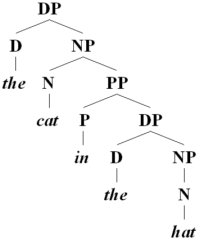
Более
мелкие элементы можно скомбинировать, чтобы образовать более крупные элементы,
которые в свою очередь можно скомбинировать в еще более крупные элементы. В
принципе нет проблем с построением таких схем – компьютеры используют принцип
дерева, например, представляя структуры директорий или папок на жестком диске.
Но
как мы уже не раз видели: что естественно для компьютера, не всегда естественно
для человеческого мозга. Построение дерева требует точности запоминания,
которой человеческий мозг не отличается. Построение структуры дерева с памятью
почтового кода – простое дело, которое компьютерные программисты делают много
раз в день. Но построение структуры дерева на основе контекстуальной памяти –
это уже совершенно другая история, клудж, который может получиться, а может и
нет.
Работая
с простыми предложениями, мы обычно справляемся, но нашу способность понимать
предложения легко дискредитировать. Возьмем, например, такое короткое
предложение, которое я упоминал в первой главе:
People people left left.
А
вот немного более простой вариант.
Farmers monkeys fear slept.
В
каждом четыре слова, но их достаточно, чтобы сбить с толку большинство людей.
Тем не менее оба предложения грамматически правильны. Первое означает, что
несколько человек, которых оставила другая группа людей, уехали тоже; во втором
говорится примерно следующее: «Существуют некие фермеры, которых боятся
обезьяны, и эти фермеры спали; фермеры, которых боялись обезьяны, спали».
Предложения такого рода, известные как «встроенные в центр» (поскольку одна
клаузула заключена точно посередине другой) – особенно трудны, поскольку
эволюция никогда не натыкалась на правильные древовидные структуры.[41]
Для
того чтобы интерпретировать предложения, подобные этим, и полностью представить
рекурсию (другой классический пример The rat the cat the mouse chased bit
died ), нам нужно отследить каждое существительное и каждый глагол, и в то
же время держать в голове связи между ними и клаузулами, которые они образуют. Именно
для этого и предназначено грамматическое дерево.
Проблема
в том, что это требует точно помнить структуры и слова, которые сказаны (или
прочитаны). И именно на это не способна наша память. Если бы я стал читать эту
книгу вслух и неожиданно, без предварительного предупреждения, остановился и
попросил вас повторить последнее предложение, которое вы услышали, вы,
наверное, не смогли бы. Вероятно, вы помнили бы суть того, что я сказал, но
точные слова наверняка ускользнули бы от вас.[42]
В
результате попытки отследить структуру предложений напоминают стремление
восстановить хронологию давно прошедших событий: неуклюже, ненадежно, но лучше,
чем ничего. Рассмотрим, например, такое предложение:
It was the banker that praised the barber
that alienated his wife that climbed the mounting.
А
теперь разберемся, кто карабкался в горы: банкир, парикмахер или его жена?
Компьютерная программа не имела бы проблем с ответом на этот вопрос; каждое
существительное и каждый глагол были бы помещены в правильное место на дереве.
Но многие люди придут в недоумение. При отсутствии памяти, организованной по
месту, лучшее, что мы можем сделать, – это приблизительно структурировать
деревья, неуклюже делая это исходя из контекстуальной памяти. Если мы получили
достаточно точных подсказок, это не проблема, но, когда отдельные компоненты
предложений достаточно похожи, чтобы путаться, все здание обвалится.[43]
Вероятно,
самая большая проблема с грамматикой не в сложности построения деревьев, а в
составлении предложений, которые можно четко разобрать, если нам это
понадобится. Поскольку наши предложения понятны нам самим, мы исходим из того,
что они понятны и слушателям. Но часто это бывает не так. Как обнаружили
инженеры, когда начали пытаться строить машины, понимающие язык, существенная часть
того, что мы говорим, звучит неоднозначно.[44]
Возьмем,
например, казалось бы, простое предложение:
Put the block in the box on the table.
Обычное
предложение, но на самом деле оно может означать две вещи: просьбу положить
конкретный пакет, который находится в коробке, на стол либо просьбу взять
какой-то пакет и положить в определенную коробку, которая находится на столе.
Добавьте
другую клаузулу, и мы покажем четыре возможности:
• Put the block [(in the box on the table) in
the kitchen].
• Put the block [in the box (on the table in
the kitchen)].
• Put [the block (in the box) on the table]
in the kitchen.
• Put (the block in the box) (on the table in
the kitchen).
Большую
часть времени наш мозг защищает нас от усложнения, автоматически стараясь по-своему
взвесить все возможности. Если мы слышим Put the block in the box on the
table и есть именно один пакет, мы даже не задумываемся о том, что
предложение может означать что-то еще. Сам по себе язык нам об этом не говорит,
но мы достаточно умны для того, чтобы связать то, что слышим, с тем, что это
может означать. (Говорящие также используют ряд «паралингвистических» приемов
вроде мимики и жеста для того, чтобы дополнить язык; они могут еще и посмотреть
на слушателя, чтобы убедиться в том, что их поняли.)
Но
такие трюки занимают нас до поры до времени. Когда мы не можем подобрать
подходящий ключ, коммуникация усложняется, и это одна из причин, по которой
мейлы и телефонные звонки чаще ведут к взаимонепониманию, чем личное общение. И
даже когда мы обращаемся непосредственно к аудитории, если мы используем
неоднозначные высказывания, люди могут просто ничего не заметить, они могут
решить, что поняли правильно, хотя это и не так. Недавно в одном исследовании,
ставшем настоящим откровением, студентов колледжа попросили прочитать вслух
несколько грамматически неоднозначных[45]
предложений наподобие Angela shot the man with the gun (в котором
пистолет может быть как оружием убийцы Анжелы, так и огнестрельным оружием,
которое по случаю жертва имела при себе). Их заранее предупредили, что
предложения неоднозначные, и разрешили сколько угодно пользоваться акцентами
(подчеркнуто произносить слова); вопрос состоял в том, смогут ли они сказать,
когда именно они успешно передают смысл, который они вкладывают. Оказалось, что
большинство декламаторов не справились с заданием и понятия не имели, насколько
они были плохи. Почти в половине случаев, когда испытуемые считали, что
правильно передали смысл, на самом деле не были поняты своими слушателями.[46] (Да и
слушатели были ненамного лучше, часто полагая, что все поняли, когда это было
не так.)
В
самом деле, определенная часть работы, которую профессиональные писатели должны
делать (особенно если они пишут нехудожественную литературу), состоит в
преодолении языковых ограничений, когда надо тщательно проверять текст, чтобы
убедиться, что нет туманных «он», которые могут относиться и к фермеру, и к его
сыну, нет неправильно поставленных запятых и т.д. Как сказал Роберт Льюис
Стивенсон: «Трудность литературы не в том, чтобы писать, а в том, чтобы писать
то, что имеешь в виду». Конечно, иногда двусмысленность бывает намеренной, но
это другая история; одно дело – оставить читателя с чувством решения трудной
задачи, а другое – случайно вызвать у него замешательство.
Соединим
все факторы вместе – неумышленная двусмысленность, избирательная память,
поспешные суждения, произвольные ассоциации и хореография, деформирующая наши
внутренние часы – и что в результате получается? Туманность, субъективность и
язык, подверженный неправильной интерпретации, не говоря уже о голосовом
аппарате, более причудливом, чем волынка, изготовленная из ершиков для чистки
трубок и картонной арматуры. Как сказал лингвист Джефф Паллум, «английский язык
– во многих отношениях дефектное творение эволюции, изобилующее недоработанными
элементами, грубыми дизайнерскими просчетами, неровными гранями, глупыми
упущениями и пагубной и извращенной неупорядоченностью».
Как
это сформулировала психолингвист Фернанда Феррера, язык «хорош в меру», он
несовершенен. Большую часть времени мы справляемся, но иногда сбиваемся. Или
даже заблуждаемся. Некоторые люди вряд ли заметят, например, ошибку, если вы
спросите их: «Сколько животных Моисей взял в ковчег?»[47] Еще меньше людей заметят, что
предложение More people have been to Russia than I have то ли
грамматически некорректно, то ли не согласовано (в зависимости от точки
зрения).
Если
бы язык был спроектирован умным инженером, переводчики остались бы без работы и
языковые школы «Берлитц» были бы доступны, как бигмак на вынос. Слова систематично
соотносились бы друг с другом, и фонемы произносились бы одинаково. Вы могли бы
точно говорить всем этим телефонам с системами речевого ввода, чего вы от них
хотите, и быть уверенными, что они поняли вас. Не было бы двусмысленности и
неупорядоченности. Люди говорили бы то, что они имеют в виду, и имели бы в виду
то, что говорят. Увы, все наоборот. Наши мысли застревают на кончике языка,
когда мы пытаемся припомнить нужное слово. Грамматика связывает нас по рукам и
ногам. (То ли «И тот и другой ключ от кабинета лежат…» , то ли «И тот
и другой ключ от кабинета лежит…» Ну да ладно.) Синтаксис с ходу не
поддается.
Все
это не говорит о том, что язык ужасен, просто, если бы он был создан по заранее
продуманному плану, он был бы лучше.
Характерная
для языка тенденция к путанице, однако, имеет свою логику: логику эволюции. Мы
коартикулируем, произнося звуки раздельно, в зависимости от контекста,
поскольку издаем звуки, не пропуская их через цифровой усилитель к
электромагнитной акустической системе, а молотя языком по трехмерным полостям,
предназначенным изначально для переработки пищи, а не для коммуникации.
Поэтому, пока она продает морские ракушки на берегу моря , наш
измученный язык изрядно заплетается. Почему? Потому что язык был сляпан наспех,
наудачу, с использованием механизмов, изначально разработанных для других
целей.
6
Удовольствие
Счастье
– это теплый щенок.
Чарли
Браун
Счастье
– это теплый пистолет.
Битлз
Каждому
свое.
Пословица
Горе
вам, люди, не знающие что такое счастье; но горе писателю, который примется
определять его. Теплые пистолеты и теплые щенки[48] – это всего лишь примеры счастья,
а не дефиниции.
Мой
словарь определяет счастье как «удовольствие», а удовольствие – как чувство
«счастья, удовлетворения и наслаждения». Продолжая этот заколдованный круг, я
обращаюсь к слову чувство и обнаруживаю, что чувство – это
«воспринимаемая эмоция», в то время как эмоцией называется «сильное чувство».
Ну
ладно. Как сказал судья Верховного суда Поттер Стюарт относительно порнографии
(в противоположность искусству), это трудно сформулировать, но, «когда я
увижу, я пойму». Под счастьем могут подразумеваться секс, наркотики,
рок-н-ролл, рев толпы, удовлетворение от хорошо сделанной работы, вкусной еды,
хороших напитков, интересной беседы – не говоря уже о том, что психолог Михай
Чиксентмихай называет состоянием «потока», когда вы настолько поглощены тем,
что хорошо делаете, что не замечаете времени. С риском задеть чувства одержимых
философов, где бы они ни находились, предлагаю на этом остановиться. На мой
взгляд, вопрос не в том, как мы определяем счастье, а почему с точки
зрения эволюции людей вообще это волнует.
На
первый взгляд ответ кажется очевидным. Стандартное объяснение состоит в том,
что счастье эволюционировало в известной мере так, чтобы направлять наше
поведение. Процитируем известного эволюционного психолога Рэндольфа Нессе: «Наш
мозг мог быть устроен так, что хорошая еда, секс, восхищение со стороны других
людей, наблюдение за успехами своих детей были бы непривлекательны, но предки,
чей мозг был бы так устроен, вероятно, немного добавили бы в генный пул,
сделавший природу человека такой, какова она сейчас». Нами правит удовольствие,
как заметил Фрейд (а задолго до него Аристотель), и без него развитие человека
как вида было бы невозможно.[49]
Очень
похоже на правду. В соответствии с тем, что удовольствие служит нашим
руководящим принципом, мы автоматически (и часто бессознательно) все, что
видим, делим на две категории: «приятное» и «неприятное». Если я покажу вам
такое слово, как солнце, а потом попрошу вас решить как можно скорее,
позитивно ли слово чудесный, вы отреагируете быстрее, чем если вам
показать неприятное слово (скажем, яд, а не солнце ).
Когнитивные психологи называют такой ускоренный ответ эффектом позитивного
прайминга; это означает, что мы постоянно и автоматически делим все, с чем
сталкиваемся, на две категории: хорошее или плохое.
Такого
рода автоматическая оценка (в основном это епархия рефлексивной системы)
удивительно непроста. Возьмем, например, слово вода, это приятно?
Зависит от того, насколько вы хотите пить. И наверняка исследования подтвердят,
что люди, испытывающие жажду, выказывают больший эффект позитивного прайминга в
отношении слова «вода», чем люди, не страдающие обезвоживанием. Это происходит
в миллисекунды, позволяя удовольствию служить направляющей силой в каждый
момент жизни. Подобные явления – а это лишь крохотная часть – касаются и нашего
отношения к другим людям: чем больше мы нуждаемся в них, тем больше они нам
нравятся. (Немного циничная версия пословицы «Друзья познаются в беде» с
позиции нашего подсознания.)
Но
сама по себе идея, что, «если это воспринимается как благо, значит, это было
хорошо и для наших предков», не выдерживает критики. Ведь очень многое из того,
что доставляет нам удовольствие, не слишком влияет на наши гены. В Соединенных
Штатах средний взрослый проводит около трети своего бодрствования в досуге:
телевидение, спорт, выпивка с друзьями – в занятиях, не имеющих отношения к
генетическим завоеваниям. Даже секс, как правило, для большинства людей – форма
отдыха, а не созидания. Когда я трачу $100 в Sushi Samba, моем любимом модном
ресторане, я делаю это не потому, что это увеличит число моих детей или
перуанская и японская еда – самый дешевый (или даже самый питательный) способ
наполнить мой желудок. Я делаю это потому, что я люблю вкус желтохвостой
лакедры – даже если с точки зрения эволюции мои счета за ужин – непростительное
расточительство.
Марсиане,
глядя на Землю, поневоле призадумаются. С чего это люди валяют дурака, когда
просто надо делать дело? Известно, что и у других видов есть любовная игра,
только никакие другие существа не тратят на это столько времени и не делают это
столь изощренно. Лишь немногие прочие виды, похоже, не жалеют на это времени
без цели размножения, и ни один вид (за пределами лабораторий, которыми
заведуют любознательные представители человечества) не смотрит телевизор, не
ходит на рок-концерты и не занимается организованным спортом. Отсюда вопрос:
действительно ли удовольствие представляет собой идеальное приспособление, или
(пусть извинит нас Шекспир) все-таки клуджево что-то в Датском королевстве?
Ага,
скажет наш марсианин; люди отныне не рабы своих генов. Вместо того чтобы
заниматься деятельностью, которая воспроизведет наибольшее число их генов, люди
пытаются максимизировать нечто абстрактное – назовем это «счастье», – что,
похоже, являет собой меру таких факторов, как человеческое благополучие,
уровень успеха, воспринимаемый контроль над собственной жизнью и желаемое
отношение со стороны себе подобных.
Тут
наш марсианский друг запутается еще больше. Если люди в принципе пытаются
максимизировать свое благополучие, зачем же они делают столько такого, что в
перспективе никак не обещает большого или длительного счастья?
Пожалуй,
вряд ли что-то озадачит марсианина больше, чем огромное количество времени,
которое люди тратят перед телевизором. В Америке в среднем 2-4 часа в день.
Если учесть, что средний человек бодрствует всего 16 часов, проводит на работе
по меньшей мере 8, то это гигантская часть свободного времени среднего
человека. Тем не менее день за днем аудитория поглощает шоу за шоу, по большей
части истории сомнительного качества, о вымышленных персонажах, или изрядно
приукрашенные «реальные» портреты людей в невероятных ситуациях, в которых
обычный человек вряд ли когда-либо окажется. (Да, общественное телевидение
транслирует некоторые хорошие документальные фильмы, но они никогда не получают
таких рейтингов, как сериалы «Закон и порядок», «Остаться в живых» и т.д.) И
вот в чем прикол: всю эту галиматью смотрят обычно менее счастливые люди по
сравнению с теми, кто не тратит слишком много времени на телевизор. Подобный
просмотр телепередач может ненадолго поднять настроение, но в перспективе час
перед телевизором – это время, которое можно было бы использовать на другие
занятия – на спорт, работу, хобби, заботу о детях, помощь людям, дружеское
общение.
И
разумеется, есть химические вещества, специально придуманные для мгновенного
доступа ко всему механизму вознаграждения. Они непосредственно стимулируют
участки мозга, отвечающие за удовольствие (к примеру, nucleus accumbens –
центр подкрепления). Конечно, я говорю об алкоголе, никотине и наркотиках,
таких как кокаин, героин, амфетамины. Тут интересен не сам факт, что они
существуют (практически невозможно создать основанный на химических процессах
мозг, неуязвимый при этом для махинаций находчивых химиков), а степень, до
которой люди подвержены злоупотреблениям ими, даже понимая, что в перспективе
это угрожает их жизни. Писатель Джон Чивер, например, признавался: «Год за
годом я читал [в своих дневниках], что слишком много пью… день за днем, страдаю
от приступов вины, просыпаюсь в три часа ночи с чувством абстиненции. Пьянство,
его последствия, окружение и все отсюда вытекающее казались непереносимыми. И тем
не менее каждый божий день я тянулся к бутылке с виски».
Как
сказал один психолог, зависимость ведет человека вниз по «тропе наслаждений»,
когда с точки зрения временного удовольствия сиюминутные решения кажутся
рациональными, хотя отдаленные последствия часто разрушительны.
Даже
секс в этом смысле – повод задуматься. То, что это источник наслаждения,
наверное, ни для кого не секрет: если бы секс не был радостью для наших
предков, нас с вами здесь просто не было бы. В конце концов, секс – прямой путь
к зачатию, а без этого не было бы жизни. Без жизни не было бы ее возобновления,
и легионы «эгоистичных генов» остались бы не удел. Напрашивается мысль, что
создания, которые наслаждаются сексом (или по крайней мере стремятся к нему),
размножаются интенсивнее остальных.
Но
иметь вкус к сексу – не значит заниматься им непрерывно, забыв обо всем на
свете. Мы все знаем истории политиков, священников и простых людей, разрушивших
собственные жизни в неотступной сексуальной гонке. Так что логично, если
марсианин задастся вопросом относительно нашей современной потребности в сексе:
а не преувеличена ли она, как наши потребности в сахаре, соли и жирах?
И
марсианин неизбежно пришел бы к осознанию, что хотя глубинная идея удовольствия
как мотиватора имеет здоровое зерно, система удовольствия в целом – клудж, от
начала и до конца. Если назначение удовольствия – направлять нас на
удовлетворение потребностей наших генов, то почему же люди пускают на ветер
столько своего времени, занимаясь тем, что не отражает их потребностей?
Конечно, есть мужчины, прыгающие с парашютом, чтобы впечатлить дам, но многие
из нас с риском для себя катаются на лыжах, сноуборде или гоняют на автомобиле,
даже когда никто на нас не смотрит. Когда столь существенная часть занятий
человека способствует тому, что ставит под угрозу его «репродуктивное
благополучие», этому должно быть объяснение.
И
оно действительно есть, только суть его не в оптимизации, а наоборот, в
неуклюжести мозга. Первая причина нам уже знакома: мозговые аппаратные
средства, управляющие удовольствием, как и в значительной степени вообще
устройство психики, имеют двоякую природу. Лишь некоторые наши удовольствия
(такие, наверное, как чувство удовлетворения от хорошо сделанной работы)
происходят от рассуждающей системы, но основная их часть – нет. Большинство
удовольствий идет от атавистической рефлексивной системы, которая, как мы
видели, достаточно недальновидна, и, если сравнить эти две системы,
перевешивает все-таки последняя. Да, я могу получить некоторое чувство
удовлетворения, если откажусь от крем-брюле, но это удовлетворение меркнет в
сравнении с кайфом, пусть кратковременным, который я получу, съев его.[50] Мои гены были бы
здоровее, если бы я пропустил десерт. Дольше сохранялись бы артерии, что
позволяло бы мне зарабатывать больше денег и лучше заботиться о моих потомках.
Но эти самые гены из-за их недальновидности оставили меня с мозгом, которому не
хватает мудрости, способной преобладать над животной частью мозга, доставшегося
от прошлых эпох.
Вторая
причина более хитроумна: центр удовольствия не строился для таких, как мы,
созданий, разбирающихся в культуре и технике. Большинство наших механизмов
получения удовольствий достаточно примитивны, и в конечном итоге мы научились
быть умнее их. В идеальном мире (по крайней мере с точки зрения наших генов)
участки нашего мозга, которые решают, какое занятие доставляет нам
удовольствие, были бы чрезвычайно разборчивы, реагируя лишь на то, что
действительно полезно для нас. Например, фрукты содержат сахар, а млекопитающие
нуждаются в сахаре, следовательно, в ходе эволюции у нас должен развиваться
вкус к фруктам. Но эти самые рецепторы, воспринимающие сахар, не могут
определить разницу между настоящими фруктами и синтетическими, содержащими
аромат без питательной ценности. Мы, люди (в целом, а не по отдельности),
придумали тысячи способов обманывать наши центры удовольствия. Языку приятен
сладкий вкус фруктов? Ага! Предложить вам мармелада? Лимонада? Фруктового сока
с искусственными ароматизаторами? Сочная дыня, возможно, и хороша для нас, но
леденцы со вкусом дыни нет.
И
леденцы с ароматом дыни – это только начало. Огромная часть ментальных
механизмов, которые мы используем для распознания удовольствия, точно так же
примитивны, и их легко обмануть. В целом наши детекторы удовольствия склонны
реагировать не просто на конкретные раздражители, которые могли быть желанными
в условиях жизни наших предков, а на целый ряд других стимулов, которые несут
мало пользы нашим генам. Например, механизмы, обеспечивающие наслаждение
сексом, провоцируют нас заниматься им, что легко может предвидеть любой
разумный эволюционный психолог. Но не просто, когда секс ведет к размножению
(самая ограниченная настройка, какую можно вообразить) или даже к созданию
пары, но гораздо в более широком смысле: практически в любое время, при любых
обстоятельствах, и парами, и втроем, и соло, с людьми своего и противоположного
пола, с отверстиями, предназначенными для зачатия, и с частями тела, не
имеющими к нему отношения. Всякий раз, когда люди занимаются сексом без прямой
или косвенной задачи воспроизводства, они водят свои гены за нос.
Самое
парадоксальное, конечно, то, что хотя секс – невероятно мощная движущая сила,
часто люди занимаются им способами, специально придуманными, чтобы не иметь
детей. Гетеросексуалы перевязывают семенники, в эпоху ВИЧ геи продолжают
практиковать незащищенный секс, а педофилы преследуют свои интересы, даже
рискуя тюремным заключением и осуждением со стороны общественности. С точки
зрения генов все это, в отличие от секса ради потомства или закрепления
родительской пары, огромная ошибка.
Разумеется,
эволюционные психологи пытаются найти адаптивную ценность хотя бы одной из всех
этих вариаций (гомосексуальность), но никакие объяснения не выдерживают
критики. (Есть, например, гипотеза «дяди гея», согласно которой гомосексуализм
сохраняется среди населения, поскольку люди этой ориентации часто вкладывают
существенные ресурсы в потомство своих братьев и сестер.)[51] Более разумные доводы, с моей
точки зрения, в том, что гомосексуальность, как и другая форма сексуальности,
являет собой пример системы удовольствия, настроенной эволюцией расширительно
(на близость и контакты), а не узко сфокусированной (на
воспроизводстве), и предназначена для функции, отличной от той, к которой была
приспособлена. С помощью некой смеси генетики и опыта люди могут сочетать
всякого рода вещи с удовольствием и продолжать далее в том же роде.[52]
Ситуация
с сексом довольно типична. Значительная часть нашего психического устройства
существует, кажется, для того, чтобы оценивать вознаграждения (представляющие
удовольствие), но фактически весь этот механизм допускает более широкий круг
возможностей, чем было бы идеально (с точки зрения генов). Это мы наблюдаем с
удовольствием от сахара – пломбир с горячей карамелью почти всегда приносит
удовольствие, нуждаемся мы в калориях или нет, – и точно так же с более
современными страстями, такими как зависимость от Интернета. Эта одержимость
предположительно начинается с наследственной схемы, которая вознаграждала нас
за получение информации. Как это сформулировал психолог Джордж Миллер, мы все –
«информоголики», и нетрудно видеть, как предки, которые любили собирать факты,
превосходили тех, кто обнаруживал мало интереса к познанию нового. Но и тут мы
имеем систему, которая не была настроена достаточно точно: одно дело – находить
удовольствие в узнавании трав, помогающих при открытых ранах, а другое – в
последних сплетнях об Анджелине Джоли и Брэде Питте. Мы все только выиграли бы,
если бы были разборчивее в отношении информации, как Шерлок Холмс, который даже
не знал, что земля вращается вокруг солнца. Пожалуй, нам было бы полезно
поучиться его теории:
Человеческий мозг подобен маленькой пустой
мансарде, и вы должны обставить ее мебелью на свой вкус. Глупец хватает все,
что ему подвернется под руку, и знания, которые могли бы быть полезны для него,
задвигаются в угол, или в лучшем случае стоят вперемешку с множеством других
вещей, так что порой бывает даже трудно до них дотянуться… Вот почему так важно
не иметь бесполезных знаний, через которые приходится продираться, отыскивая
нужные.
Увы,
Шерлок Холмс – вымышленный персонаж. Немногие люди в реальном мире располагают
подобной хорошо организованной и точно отлаженной системой отбора информации.
Напротив, у большинства из нас любая информация способна вызвать прилив
радости. Поздно вечером, если я позволяю себе залезть в Интернет, я обычно
кликаю то туда (Вторая мировая война), то сюда (Иводзима),
потом бездумно переключаюсь на следующий линк (Клинт Иствуд), только
для того, чтобы застрять на четвертом (Грязный Гарри), быстро
прокладывая путь от темы к теме без особого плана в голове. Тем не менее каждый
обрывок информации приносит мне удовольствие. Я не ученый-историк и не
кинокритик, едва ли что-то из этой информации мне когда-либо пригодится, но я
ничего не могу с собой поделать; просто я люблю сам процесс, и мой мозг не
настроен на избирательность. Хотите прервать мой серфинг? Действуйте, вы меня
просто осчастливите!
Нечто
подобное происходит и с нашим стремлением к контролю. Исследование за исследованием
показывают, что чувство контроля дает человеку ощущение счастья. В одном
классическом исследовании, например, людей поместили в условия, когда они
слышали ряд неожиданных и непредсказуемых шумов, возникающих с совершенно
случайными интервалами. Некоторым испытуемым дали понять, что они могут что-то
с этим сделать (нажать кнопку, чтобы прекратить шум), другим же сказали, что
они бессильны. Люди, имевшие спасительную возможность, испытывали меньший
стресс и были более спокойны, хотя и не нажимали на кнопку. (Кнопка «закрытия
дверей» в лифте работает по тому же принципу.) В данном случае опять с точки
зрения адаптации имела бы смысл узко сфокусированная система: существа, ищущие
условия, в которых у них есть определенная степень контроля, превосходили бы
тех, кто полностью отдает себя на милость более мощных сил. (Лучше, например,
медленно плыть по течению, чем бросаться в водопад.) Но в современной жизни мы
обманываем механизм вознаграждения чувства хорошо сделанного дела, часами
шлифуя удар в гольфе или обучаясь гончарному ремеслу, что не оказывает
заметного влияния на количество или качество наших потомков.
Иными
словами, современная жизнь полна, как это называют психологи, «гипернормальных
стимулов». Стимулами настолько «совершенными», что они не существуют в обычном
мире: анатомически невероятные параметры Барби, безупречно раскрашенное лицо
модели, сенсационные кадры MTV, искусно синтезированный звук в ночном клубе.
Такие стимулы дают очищенное наслаждение, невозможное в мире наших предков. Видеоигры
– прекрасный пример; мы наслаждаемся ими из-за чувства контроля, которое они
дают; мы любим их в той степени, в какой можем успешно справляться с вызовами,
которые они нам бросают, и перестаем получать удовольствие, стоит нам потерять
чувство контроля. Игра, которая не кажется справедливой, не вызывает интереса,
особенно потому, что не дает ощущения владения ситуацией. Каждый новый уровень
вызова предназначен повысить интенсивность удовольствия. Видеоигры – это не
просто контроль; это дистиллят контроля: гипернормальные вариации естественных
процессов вознаграждения освоения навыков, направленные на то, чтобы как можно
чаще доставлять себе наслаждение собственным могуществом. Если видеоигры
(произведенные индустрией, где крутятся миллиарды долларов) захватывают
некоторых людей больше, чем сама жизнь (какие уж тут гены), то это потому, что
игры придуманы, чтобы эксплуатировать неточность нашего механизма распознавания
удовольствия.
В
конечном итоге удовольствие эклектично. Мы любим получать информацию, физический
контакт, дружеское общение, вкусную еду, хорошее вино, любим проводить время с
домашними животными, наслаждаемся музыкой, театром, танцами, чтением романов,
видеоиграми, катанием на лыжах и скейтборде; иногда мы платим людям деньги,
чтобы они напоили или развеселили нас. Список поистине бесконечен. Некоторые
эволюционные психологи пытались приписать многим из этих явлений адаптивные
преимущества. Так Жоффре Миллер считал, что музыка эволюционировала как ритуал
ухаживаний. (Другая популярная гипотеза состоит в том, что музыка развилась из
колыбельной.) Известен пример Миллера о Джимми Хендриксе:
Этот яркий рок-гитарист умер в возрасте 27
лет в 1970 году от передозировки наркотиков, к которым он прибегал для
разжигания своего музыкального воображения. Его достижения в музыке, три
альбома и сотни живых концертов не спасли ему жизнь. Но у него были
бесчисленные сексуальные связи с фанатками, он поддерживал длительные отношения
по крайней мере с двумя женщинами и был отцом по меньшей мере троих детей в
США, Германии и Швеции. Живи он в эпоху, когда не было контроля рождаемости, их
было бы намного больше.
Но
ни одна из этих гипотез не убедительна. Теория сексуального отбора, например,
предполагает, что мужчины должны обладать большим музыкальным талантом, чем
женщины, но даже если мальчики-подростки, как известно, тратят бесчисленные
часы, стараясь сыграть самый тяжелый металл в мире, нет никаких убедительных
свидетельств, что мужчины действительно одареннее в музыке, чем женщины.[53] Есть тысячи
(а может быть, сотни тысяч) счастливых в браке женщин, посвятивших свои жизни
сочинению и записи музыки. Более того, нет оснований думать, что
предположительно соблазняемые (женщины по Миллеру) получают меньше удовольствия
от создания музыки, чем предполагаемые обольстители, или что удовольствие от
музыки как-либо связано с деторождением. Нет сомнений в том, что музыка может
использоваться в ухаживаниях, но сам факт использования чего-то определенным
образом не доказывает, что именно для этой цели оно и предназначено, то же
самое касается и колыбельной.
Напротив,
многие современные удовольствия могут возникать из настроенной расширительно
системы удовольствий, унаследованной от наших предков. Хотя музыка как таковая
– которая служит рекреации, а не просто идентификации (в случае извлечения
музыкальных звуков певчими птицами и китообразными) – исключительно
человеческое достояние, это не относится ко многим или даже большинству
когнитивных механизмов, стоящих за музыкой. Как язык построен главным образом
на достаточно древних интеллектуальных схемах, точно так же есть основания
считать, что музыка основана преимущественно (хотя, наверное, и не полностью)
на механизмах, унаследованных от наших домузыкальных предков. Чувство ритма
наблюдается в рудиментарной форме по крайней мере у некоторых видов обезьян
(Кинг-Конг не единственный барабанил себя по груди), а способность
дифференцировать высоту звука встречается еще чаще. Серебряных карасей и
голубей успешно учили различать музыкальные стили. Также музыка, похоже,
связана с удовольствием, какое мы получаем от социальной близости, с
наслаждением, которое испытываем от точных предсказаний (как в предвкушении
ритмической синхронизации), и от их сопоставления с неожиданным,[54] и от чего-то
более будничного, просто от узнавания знакомой темы (эффекта, упомянутого ранее
в контексте убеждений). Играя на музыкальных инструментах (или в момент пения),
мы достигаем ощущения мастерства и контроля. Когда мы слушаем блюз, мы
испытываем нечто подобное, по крайней мере отчасти, и потому не чувствуем себя
одинокими; даже самые тревожно-мнительные тинэйджеры испытывают облегчение,
осознавая, что их боль разделена.
Такие
формы развлечений, как музыка, кино и видеоигры, можно рассматривать, выражаясь
языком Стивена Пинкера, как «технологии удовольствия» – культурные изобретения,
которые максимизируют реакции нашей системы стимулирования. Мы наслаждаемся
такими вещами не потому, что они размножают наши гены или дают преимущества
нашим родственникам, а потому что они отобраны культурой – до такой степени
точно, что ухитряются просочиться в наши алгоритмы поиска удовольствий.
Отсюда
вывод: наш центр удовольствий состоит не из некоего набора механизмов, точно
настроенных на выживание вида, а из беспорядочного набора относительно
работоспособных систем, которые легко (и приятно) обманывать. Удовольствие
очень слабо связано с тем, что биологи называют «репродуктивной
состоятельностью», и в этом отношении нам повезло.
Учитывая,
сколько всего мы делаем, чтобы ориентировать себя на погоню за наслаждениями, можно
ожидать от нас умения правильно оценивать, что способно сделать нас
счастливыми, а что нет. Но и здесь эволюция преподносит сюрпризы.
Есть
одна простая проблема: многое из того, что делает нас счастливыми, не длится
долго. Сладости доставляют нам радость на мгновение, но вскоре возвращается
состояние, в котором мы находились до того, как их съели. То же самое относится
к сексу и кино, к телепередачам и рок-концертам. Многие из самых больших
удовольствий скоротечны.
Но
есть и более сложная проблема, которая проявляется в том, как мы ставим
долгосрочные цели. Хотя мы ведем себя так, будто пытаемся сделать все для
отдаленного будущего, часто мы потрясающе беспомощны в представлениях о том,
что сделает нас действительно счастливыми в перспективе. Как показали психологи
Тимоти Уилсон и Дэниел Гилберт, предвидение собственного счастья немного сродни
прогнозу погоды: это весьма неточная наука. Их хрестоматийный пример,[55] способный
озадачить любого доцента, рассматривает стремление любого университетского
преподавателя добиться бессрочного контракта. Практически каждый крупный
американский институт обещает своим лучшим, наиболее успешным молодым
профессорам академические свободы и гарантированную занятость на всю жизнь.
Надо только пройти аспирантуру, постдокторантуру (а то и две); потом пять или
шесть лет поработать в поисках собственной академической ниши, и если вы
преуспеете (что измеряется длиной вашего резюме), вы получите эту должность и
обеспечите себя на всю оставшуюся жизнь.
Обратная
сторона пластинки (о которой редко упоминают) – это тяжкий труд, который часто
ни к чему не приводит. От пяти до десяти лет работы над диссертацией,
постдокторантура, пять лет преподавания, борьба за получение грантов – и ради
чего все это? Без длинного списка публикаций вы не получите должность. Любой
профессор скажет вам, что бессрочный контракт – это фантастика, а его
неполучение – катастрофа.
Так
мы считаем. На самом деле никакой результат не способен дать такое счастье,
какое себе воображают люди. Получившие пожизненный контракт обычно вздыхают с
облегчением, некоторое время испытывают подъем, но их счастье не задерживается
долго, вскоре их начинают волновать другие дела. Точно так же и люди, которые
не получают контракта. Поначалу они переживают, но и это состояние непродолжительно.
После первого потрясения они обычно адаптируются к обстоятельствам. Некоторые
приходят к выводу, что академическая гонка не для них; другие начинают новую
карьеру, которая в итоге дает им большее удовлетворение.
Честолюбивые
преподаватели, которые думают, что их будущее счастье зависит от получения
пожизненной должности, часто не принимают во внимание одно укоренившееся
свойство психики: склонность довольствоваться тем, что есть. Для этого явления
есть специальный термин – адаптация [56].
Например, рокочущий звук грузовиков за окнами вашего офиса может поначалу
раздражать, но со временем вы привыкаете не обращать на него внимание – это
адаптация. Аналогично мы можем адаптироваться даже к более серьезным
раздражителям, особенно предсказуемым. Поэтому начальник, который ведет себя
как болван постоянно, может раздражать меньше, чем тот, кто бывает таким время
от времени. Если что-то становится постоянным, мы привыкаем жить с этим. Наши
обстоятельства имеют значение, но психологическая адаптация означает, что часто
они менее важны, чем мы могли ожидать.
Это
справедливо применительно к обеим крайностям спектра. Выигравшие в лотерею
привыкают к своему неожиданному богатству, а другие люди, такие как Кристофер
Рив[57],
находят способы справиться с обстоятельствами, которые многие из нас сочли бы
немыслимыми. Не поймите меня превратно – я хотел бы выиграть в лотерею и
надеюсь, что никогда не получу серьезной травмы. Но как психолог я знаю, что
выигрыш в лотерею по большому счету не изменит мою жизнь. Мне не только
придется отбиваться от давно забытых «друзей», появившихся невесть откуда, но и
столкнуться с неизбежной адаптацией: первичное возбуждение не продлится долго,
поскольку мозг не допустит этого.
Сила
адаптации – одна из причин, почему деньги значат гораздо меньше, чем принято
думать. Согласно легенде Скотт Фицджеральд как-то сказал Эрнесту Хемингуэю:
«Богатые не такие, как мы». Хемингуэй, как утверждают, отбрил его: «Ну да, у
них больше денег», полагая, что само по себе богатство не играет большой роли.
Хемингуэй был прав. Люди, находящиеся выше черты бедности, более счастливы, чем
те, кто ниже, но те, кто поистине богат, не намного счастливее тех, кто просто
богат. Одно из последних исследований, например, показало, что люди с доходом
$90 000 в год не счастливее тех, кто принадлежит к тем, чей доход составляет
$50 000-$89 000. А в New York Times недавно публиковалась статья,
описывающая группу поддержки для мультимиллионеров. В другом исследовании
утверждалось, что хотя средний доход японской семьи в период с 1958 по 1987 год
вырос в пять раз, мнение людей о собственном счастье совершенно не изменилось,
все эти лишние деньги не добавили счастья. Подобный рост жизненного уровня,
который произошел в Соединенных Штатах, точно так же мало повлиял на общее счастье.
Одно за другим исследования показывают, что материальное благополучие
предопределяет счастье лишь в самой незначительной степени. Новые материальные
блага поначалу обычно приносят радость, но вскоре мы привыкаем к ним; как бы
здорово ни было водить новый Audi, но, как и любой другой автомобиль, вскоре он
становится не более чем транспортным средством.
Парадоксально,
но на самом деле имеет значение не абсолютное богатство, а относительный доход.
Большинство людей предпочли бы получать зарплату $70 000, если их коллеги в
среднем имеют $60 000, но не $80 000, если в их учреждении другие получают $90
000. По мере того как благосостояние общества в целом растет, индивидуальные
ожидания увеличиваются. Мы не хотим быть просто богатыми, мы хотим быть богаче
(чем наши соседи). Чистый результат в том, что многие из нас в силу привыкания
к достигнутому уровню счастья работают больше и больше, чтобы поддерживать, по
сути дела, прежний уровень счастья.
Одно
из самых удивительных открытий в связи со счастьем – это как плохо мы
справляемся с его оценкой. Дело не только в том, что ни мозговой сканер, ни
дофаминовый счетчик не могут с этим справиться, а в том, что часто мы просто не
знаем, насколько на самом деле несовершенен инструментарий счастья в целом.
Счастливы
ли вы именно сейчас, читая конкретную книгу? Серьезно: как вы можете оценить
свои ощущения по шкале от 1 («Лучше бы я помыла посуду») до 7 («Большее
удовольствие трудно вообразить!»)? Вероятно, вы чувствуете, что просто «знаете»
ответ или способны ответить «интуитивно» – что вы в состоянии прямо оценить,
насколько счастливы, точно так же, как можете определить, жарко вам или
холодно. Но ряд исследований говорят о том, что наше впечатление или интуиция –
иллюзия.
Вернемся
к опросу студентов по поводу того, счастливы ли они, отвечавших после того, как
им напоминали о любовных свиданиях. Мы ничем не отличаемся от них. Если
спрашивать людей об их счастье вообще, разузнав перед этим об их браке или
здоровье, эффект будет аналогичный. Эти исследования говорят о том, что на
самом люди обычно не знают, насколько они счастливы. Наше субъективное
восприятие счастья, как и многое в наших представлениях, переменчиво и в
огромной степени зависит от контекста.
Возможно,
по этой причине, чем больше мы задумываемся о счастье, тем менее счастливы.
Люди, которые меньше задумываются по поводу своей жизни, в целом счастливее
тех, кто более склонен к этому, как показано у Вуди Аллена в фильме «Энни
Холл». Персонаж Аллена спрашивает у привлекательной пары, проходящей мимо,
секрет их счастья. Женщина отвечает: «Я очень поверхностная и пустая, мыслей у
меня нет, и сказать мне нечего», а ее красивый бойфренд добавляет: «И я тоже».
После чего они бодро шагают прочь. Иными словами, перефразируя Марка Твена,
препарировать счастье – все равно что препарировать лягушку: значит обречь их
на смерть.
Наше
отсутствие понимания самих себя может на какой-то момент озадачить, но, если
подумать, это не удивительно. Эволюции «безразлично», понимаем ли мы
собственные внутренние процессы и даже счастливы ли мы. Счастье или, точнее,
способность стремиться к нему – это несколько больше, чем просто наш внутренний
двигатель. Привыкание к счастью заставляет нас двигаться вперед: жить,
размножаться, заботиться о детях, сохранять работоспособность ради завтрашнего дня.
Эволюция не позаботилась о том, чтобы мы были счастливыми, она сделала
нас ищущими счастья.
В
нашей битве с собственными генами есть важный момент: если мы рассматриваем
удовольствие как компас (пусть и неточный), то оно подсказывает нам, куда держать
путь, а если мы рассматриваем счастье как термометр, оно говорит нам, насколько
хорошо мы справляемся. Эти инструменты с полным основанием должны быть такими,
чтобы мы не могли их обманывать. Если начать строить наш мозг с нуля, то
инструменты, оценивающие наше психическое состояние, без сомнения, должны вести
себя наподобие электрических счетчиков, то есть это должны быть инструменты,
которые мы можем проверять, но с которыми не можем мухлевать. Ни один
здравомыслящий человек не купит термометр, показывающий только желаемую, а не
настоящую температуру. Но люди постоянно пытаются перехитрить свои внутренние
инструменты. Не только гоняясь за новыми способами получения удовольствия, но и
обманывая себя, когда им не нравится то, что им говорит их счастьеметр. Мы
«осваиваем» новые вкусы (в попытке проигнорировать наш компас удовольствий) и,
что еще важнее, когда все идет не слишком хорошо, стараемся убедить себя, что
все отлично. (То же самое мы делаем с болью всякий раз, когда глотаем ибупрофен
или аспирин.)
Возьмем,
например, среднего студента в период, когда я выставляю оценки. Студенты,
которые получают «отлично», трепещут, они счастливы, они принимают свои оценки
с удовольствием и даже торжеством. Те, у кого «удовлетворительно», как вы легко
можете вообразить, не так воодушевлены, их занимает не столько то, что они
сделали неправильно, сколько то, что я сделал неправильно. (Вопрос 27 на
экзамене некорректный, мы никогда не обсуждали это на занятиях, и почему это
профессор Маркус не засчитал мне три пункта при ответе на вопрос 42?) Между тем
отличники никогда не проявляют недовольства, что я слишком великодушен
по отношению к ним. Эта асимметрия, разумеется, результат мотивированных
умозаключений. Но я вовсе не собирался жаловаться. Я делаю то же самое, когда
ругаю рецензентов, отклоняющих мои рукописи, и восхваляю мудрость тех, кто их
принимает. Подобным образом дорожные аварии никогда не происходят по нашей вине
– это всегда другой парень.
Фрейд
рассматривал подобный самообман как иллюстрацию так называемых защитных
механизмов, я вижу в этом мотивированные умозаключения. В любом случае подобные
примеры демонстрируют наше обыкновение обманывать термометр. Зачем мучиться,
что мы сделали что-то неправильно, если можно просто встряхнуть термометр? Как
сказал персонаж Джеффа Голдблюма в фильме «Большое несчастье», «самооправдание
важнее секса». «Как прожить неделю без самооправданий?» – спрашивает он.
Мы
делаем все, чтобы преуспеть, но если не добиваемся успеха сразу, нередко
начинаем лгать, притворяться, оправдывать себя. В соответствии с этой идеей
большинство жителей западных штатов считают себя умнее, честнее, добрее,
надежнее и изобретательнее, чем средние люди. И в духе придуманного Гаррисоном
Кейлором города Лейк-Вобегон, где «сильные женщины, красивые мужчины и все дети
выше среднего уровня», мы убеждаем себя, что водим машину лучше средних
водителей и обладаем здоровьем выше среднего. Но прикиньте: мы не можем все быть
выше среднего. Когда Мохаммед Али сказал: «Я самый великий», он говорил правду;
все остальные, вероятно, просто посмеиваются над собой (или по крайней мере над
нашим «счастьеметром»).
Классические
исследования феномена, называемого когнитивным диссонансом, подходят к этому
вопросу по-другому.[58]
В 1950-е годы Леон Фестингер проделал серию знаменитых экспериментов, в
которых просил испытуемых (студентов) выполнить скучное утомительное задание
(например, воткнуть множество дюбелей в простую доску). Одна загвоздка:
некоторым испытуемым платили хорошо ($20, большая сумма в 1959 году), а другим
– плохо ($1). После этого всех спрашивали, насколько им понравилось задание.
Те, кому заплатили хорошо, как правило, признавались, что им было скучно, а те,
кому заплатили всего доллар, были склонны обманывать себя, пускаясь в
рассуждения, как это забавно – точно попадать в маленькие дырочки. Ясно, что
они не хотели признаться себе, что зря тратили время. Итак, кто кем управляет?
Счастье ведет нас или мы мелочно контролируем нашего собственного проводника?
Это как если бы мы заплатили шерпе, чтобы он повел нас в горы – только для
того, чтобы игнорировать его слова о том, что мы идем в ложном направлении.
Короче говоря, мы стараемся изо всех сил сделать себя счастливыми и жить в
гармонии с миром, но всегда готовы обмануть себя, если правда не приносит нам
пользы.
Наша
склонность к самообману может способствовать не только лжи по поводу самих
себя, но и лжи по поводу других. Психолог Мелвин Лернер, например,
сформулировал понятие «веры в справедливый мир»; человеку легче жить в мире,
который он воспринимает как справедливый, нежели в мире, который кажется ему
несправедливым. В своей крайности это убеждение ведет совершенно к
противоположному результату, такому как обвинение невинных. Изнасилованная
жертва, мол, сама виновата, или, мол, «так ей и надо». Возможно, апофеоз
подобного поведения наблюдался во время «картофельного голода» в Ирландии,[59] когда один
достаточно одиозный английский политик заявил, что «самое большое зло, которого
мы никак не хотим признать, – это не физический ущерб от голода, а нравственное
зло из-за эгоизма, извращений и нестойкости человека». Обвинение жертв
позволяет нам сохранять приятное для нас представление о справедливости мира,
нередко, однако, ценой существенных моральных издержек.
Робот,
спроектированный более разумно, мог бы сохранять способность рассуждать здраво
и обходиться без самооправданий и самообмана. Такой робот осознавал бы
настоящее, но подобно Будде был бы подготовлен принять все – и плохое и хорошее
– спокойно, без агонии и действовать, исходя из реальности, а не иллюзий.
В
биологическом смысле нейромедиаторы, стоящие за эмоциями, такие как допамин и
серотонин, – очень древние и берут начало еще от первых позвоночных, играя
основную роль в системе рефлексов животных, в том числе рыб, птиц и даже
млекопитающих. Людям с их развитой префронтальной корой головного мозга
свойственны рефлексивные рассуждения, тем самым мы оказываемся во власти
клуджа, состоящего в инструментальной фикции. Практически каждое исследование
обоснованного принятия решений относит таковую способность к префронтальной
коре; эмоции же относятся к лимбической системе (и орбитофронтальной коре).
Переднепоясной участок, развитый у людей и крупных обезьян, вероятно,
осуществляет связь между этими двумя системами. Рассуждения, как результат
работы префронтальной зоны сосредоточиваются поверх спонтанных эмоций и не
замещают их. Итак, мы оказываемся перед лицом обоюдоострого клуджа: мы
постоянно пребываем в борьбе с собой, наши сиюминутные хотения и перспективные
желания никогда не уживаются.
Самое
яркое подтверждение этому – подростки. Подростки, похоже, патологически ведомы
стремлением к немедленным вознаграждениям. Они делают нереалистичные оценки
сопутствующих рисков и не задумываются о долгосрочных издержках. Почему?
Согласно одному недавнему исследованию прилежащее ядро (nucleus accumbens),
которое оценивает награду, созревает раньше орбитальной фронтальной коры,
заведующей долгосрочным планированием и сознательными умозаключениями. Таким
образом, подростки могут обладать способностью взрослых людей оценивать
краткосрочный выигрыш, но всего лишь детскими возможностями оценивать
отдаленные риски.
Итак,
эволюционная инерция преобладает над разумным устройством. В идеале наша
мыслительная система и наша рефлексивная система должны созревать одинаковыми
темпами. Но из-за динамики развития наших генов биология часто сваливает в одну
кучу эволюционное старье и эволюционные новинки. Позвоночник, например,
структура, свойственная всем позвоночным, развивается прежде ступни,
эволюционировавшей относительно недавно. То же самое происходит с мозгом –
атавистическое предшествует современному, что, вероятно, помогает понять,
почему тинэйджеры почти буквально сами не знают, что творят. Удовольствие в
контексте несовершенной системы может быть очень опасной штукой, занимая место
Бога в библейской формуле «Бог дал, Бог взял».
7
Когда все рушится
Я
могу просчитать движение небесных тел, но не человеческое безумие.
Сэр
Исаак Ньютон
Инженеры
куда чаще, наверное, создавали бы клуджи, если бы не одно обстоятельство: где
тонко, там и рвется. Клуджи, как правило (хотя и не всегда), придумывают на
время, а не на века. На «Аполлоне-13», когда время было неумолимо, а ближайшая
фабрика находилась на расстоянии 200 000 миль, сделать клудж было необходимо.
Но сам факт, что несколько умных инженеров НАСА ухитрились соорудить воздушный
фильтр из герметизирующей ленты для воздуховодов и простого носка, не означает
совершенства построенной ими конструкции; все это годилось исключительно для
того момента. Даже клуджи, предназначенные служить какое-то время – такие как
вакуумные стеклоочистители, – часто имеют, как сказали бы инженеры,
«ограниченные условия эксплуатации». (Разве вам не хотелось бы, чтобы
автодворники работали и при движении в гору?)
Хрупкость
человеческого мозга практически не вызывает сомнений, и не только потому, для
него характерны когнитивные ошибки, которые мы видели, но и потому, что его
работа подвержена сбоям – и порой очень серьезным. Самый невинный промах –
шахматисты называют это «зевком», а мой приятель из Норвегии «мозговыми
ветрами», когда происходит неконтролируемое «испускание» здравого смысла и
внимания, – может привести к неловкой ситуации (ой!), а то и к
дорожно-транспортному происшествию. Я знаю, просто выскочило из головы!
Несмотря на лучшие намерения, наш мозг просто не в состоянии сделать то, чего
мы хотим от него. Никто не застрахован от этого. Даже Тайгеру Вудсу случается
порой пропустить легкий мяч.
Не
хочется повторять очевидные истины, но хороший компьютер не совершает
оплошностей такого рода. Мой лэптоп никогда еще не забывал перенести цифру в
процессе сложных расчетов или защитить ферзя во время шахматной партии. У
эскимосов на самом деле нет 500 слов для снега, но у нас, говорящих на
английском языке, есть масса слов для наших когнитивных коротких замыканий: не
только погрешность, оплошность, fingerfehler (гибрид английского слова палец
и немецкого ошибка, популярное словечко среди шахматистов), но и
такие слова, как прокол, ляп, оговорка, описка, недосмотр, упущение. Нет
нужды говорить, что нам предоставляется масса случаев использовать этот
вокабуляр.
То,
что даже лучшие из нас подвержены подобным случайным ошибкам, красноречиво
характеризует мозговые аппаратные средства, управляющие нашим умственным
программным обеспечением: стабильностью похвастать мы никак не можем. Почти
все, что делаем мы, существа, созданные на основе углерода, дает шанс ошибке.
Неправильно выбранное слово, потеря ориентации и забывчивость – все это
показывает несовершенство наших нервных клеток, организующих умственные процессы.
Если бессмысленная последовательность – навязчивая идея недалеких умов, как
выразился когда-то американский писатель Ральф Уолдо Эмерсон (1830-1882), то
глупая непоследовательность характеризует ум каждого человека. Нет
никакой гарантии, что мозг хотя бы одного человека работает в полную мощность.
Тем
не менее эпизодические глупости и оплошности – это лишь крохотная часть куда
более обширной и серьезной головоломки: почему нам, людям, так часто не удается
сделать намеченное и почему наш мозг настолько слаб, что от него ничего
невозможно добиться?
Есть
множество обстоятельств, способствующих постоянным умственным ошибкам. Чем
больше сваливается на нашу голову, тем скорее мы ищем прибежища в нашей
примитивной атавистической системе. До свидания, префронтальная кора, признак
благородного человеческого ума; привет тебе, животный инстинкт, недальновидный
и реактивный. Если, например, человек, настроенный на здоровую пищу, чем-то
очень озабочен, вероятность, что он станет уплетать все без разбору,
возрастает. Лабораторные исследования показывают, что, когда требования к
мозгу, так называемая когнитивная нагрузка, увеличиваются, атавистическая
система продолжает вести себя как ни в чем не бывало, – в то время как более
современная рассуждающая система плетется сзади. В частности, когда когнитивные
микросхемы в упадке и мы особенно нуждаемся в своих более развитых (и
теоретически более мощных) способностях, они могут тормозить нас и делать менее
рассудительными). Когда наши интеллектуальные и эмоциональные нагрузки
возрастают, мы склонны мыслить более стереотипно, эгоцентрично и сильнее
подвержены пагубному эффекту якоря.
Ни
одна система, конечно, не может справиться с бесконечными требованиями, но,
если бы мне поручили проектировать этот аспект мышления, я начал бы с
предоставления приоритета рассуждающей, «рациональной» системе там, где
позволяет время, и по возможности поощрял бы разум, а не рефлексы. Отдавая
пальму первенства рефлексивной системе – не потому, что она лучше, а лишь из
почтения к ее сединам, – эволюция безрассудно расточает наши самые ценные
интеллектуальные ресурсы.
Испытываем
мы умственное напряжение или нет, нашей способности решать интеллектуальные
задачи мешает еще одна банальная ошибка: многие из нас время от времени
«отключаются». Мы собираемся что-то сделать (допустим, закончить отчет к
сроку), но наши мысли разбегаются. Идеальное существо, наделенное железной
волей, сосредоточено, за исключением непредвиденных ситуаций, на тщательно
выстроенных целях. Людям же, наоборот, свойственна рассеянность, независимо от
выполняемой задачи.
Даже
с помощью Google я никогда не могу ни подтвердить, ни опровергнуть широко
распространенное мнение, что каждый четвертый человек в любое время только и
думает что о сексе,[60]
однако что-то подсказывает мне, что это недалеко от истины. Согласно недавнему
британскому исследованию, на совещаниях в офисе каждый третий сотрудник
пребывает в грезах о сексе. По расчетам экономиста, на которого ссылается Sunday
Daily Times, ущерб от подобных мечтаний на работе для британской экономики
составляет примерно £7,8 млрд в год.
Если
вы не начальник, статистика дневных сексуальных грез может показаться вам даже
забавной, но подобные «отключения», как известно из технической литературы,
очень опасны. Например, в общей сложности около 100 000 американцев в год
умирают от ДТП разного рода (в самих автомобилях и как-то по-другому); если
даже лишь треть этих трагедий обязана потере внимания, то такие зевки
становятся одной из ведущих десяти причин смерти.[61]
Мой
компьютер никогда не отвлекается, загружая почту, зато мой мозг, как я замечаю,
дрейфует постоянно, и не только на заседаниях кафедры; к моей досаде, это
происходит и в те редкие часы, которые я выкраиваю на чтение для удовольствия.
О дефиците внимания, особенно у детей, пишут очень часто, но в действительности
почти каждому человеку периодически бывает трудно сосредоточиться на
задаче.
Что
объясняет видовую склонность человека отключаться – иногда в очень
ответственные минуты? Я думаю, свойственная нам рассеянность – одно из следствий
небрежного соединения нашего атавистического рефлексивного механизма постановки
задач (вероятно, такого же, как у млекопитающих) с нашей эволюционно более
поздней рассуждающей системой, которая как бы ни была умна, не всегда
оказывается на связи.
Даже
когда мы не витаем в облаках, мы часто волыним, откладывая на завтра то, что
можно сделать сегодня. Как это сформулировал лексикограф и эссеист XIX века
Сэмюел Джонсон (за 200 лет до изобретения видеоигр), «прокрастинация – одна из
главных слабостей человека, которая вопреки призывам моралистов и доводам
разума в большей или меньшей степени довлеет над каждым».
По
недавним оценкам, 80-95% студентов колледжей склонны откладывать на потом, и
две трети студентов считают себя сильно подверженными прокрастинации. По другим
оценкам, этой болезнью хронически страдают 15-20% взрослых, а я, честно говоря,
подозреваю, что остальные просто лгут. Множество людей следуют правилу «завтра,
завтра, не сегодня»; большинство считают, что это плохо, губительно и глупо. И
тем не менее почти все мы склонны так поступать.
Трудно
представить, что прокрастинация сама по себе адаптивна. Издержки часто огромны,
преимущества минимальны, и прежде всего откладывание на завтра сводит на нет
многие попытки строить какие-либо планы. Исследования показали, что студенты,
привыкшие тянуть время, постоянно получают более низкие оценки; предприятия,
где не ставятся жесткие сроки в силу склонности сотрудников отлынивать от
работы, могут терять миллионы долларов. Тем не менее многие из нас ничего не
могут с собой поделать. Почему, если прокрастинация приносят так мало добра, мы
упорно продолжаем вести себя по-прежнему?
Что
касается меня, я надеюсь, что кто-то найдет ответ и скоро, может быть,
изобретут волшебную пилюлю, способную настроить нас в нужный момент на задачу.
Увы, никто до сих пор не взялся за это дело: завтра, завтра, не сегодня. Между
тем исследования, которые все-таки были осуществлены, предлагают если не
лечение, то диагноз: прокрастинация, по словам психологов, это «саморегулируемое
бездействие». Разумеется, никто не способен в конкретный момент делать все, что
должно быть сделано, но суть прокрастинации заключается в том, как мы
откладываем осуществление самых главных задач.
Проблема,
разумеется, не в том, что мы откладываем дела как таковые; если нам надо купить
продукты или заплатить налоги, мы буквально не способны выполнять и то и другое
одновременно. Если мы делаем сейчас что-то одно, другое должно подождать. Беда
в том, что часто мы откладываем именно то, что необходимо сделать в первую
очередь, а вместо этого смотрим телевизор или играем в видеоигру, чего можно
было вообще не делать. Синдром откладывания на потом – клудж, поскольку он
показывает, как наши самые главные цели (проводить больше времени с детьми,
закончить роман) постоянно оттесняются менее приоритетными целями (если,
конечно, стремление посмотреть последнюю серию «Отчаянных домохозяек» вообще
можно рассматривать как «цель»).
Людям
необходимо расслабление, и я не осуждаю их за это, но прокрастинация
высвечивает фундаментальный дефект в нашем когнитивном устройстве: разрыв между
механизмом, который устанавливает цели, и механизмом, который выбирает, какой
цели следовать.
Дела,
провоцирующие нас тянуть время, обычно отвечают двум условиям: мы выполняем их
без удовольствия и нет необходимости заниматься ими немедленно. При малейшей
возможности мы откладываем то, что нам не нравится делать, и предаемся
удовольствиям, часто не задумываясь о последствиях. Короче говоря,
прокрастинация – это незаконное дитя дисконтирования будущего (тенденции
недооценивать будущее в сравнении с настоящим) и превращения удовольствия в
жалкое подобие компаса.
Мы
витаем в облаках, нам не хватает мужества, мы обманываем себя. Звание человека
требует пожизненной борьбы с самими собой. Почему? Потому что эволюция сделала
нас достаточно умными, чтобы ставить разумные цели, но не снабдила волей для их
достижения.
Увы,
витание в облаках и отлынивание – отнюдь не самые страшные наши проблемы; более
серьезны психологические срывы, требующие профессиональной помощи. Ничто не
иллюстрирует уязвимость человеческого разума так отчетливо, как наша
подверженность хроническим и острым психическим нарушениям – от шизофрении до
синдрома навязчивых состояний и биполярного расстройства (называемого также
маниакально-депрессивным психозом). Чем объяснить безумие Джона Нэша,
маниакально-депрессивные состояния Винсента Ван Гога и Вирджинии Вульф,
паранойю Аллана Эдгара По, синдром навязчивых состояний Говарда Хьюза,
депрессии, которые довели до самоубийства Эрнеста Хемингуэя, Джерси Козински,
Сильвию Плат и Сполдинга Грея? Вероятно, четверть представителей человечества в
настоящий момент страдает от тех или иных клинических расстройств. И почти
половина населения в течение жизни сталкивается с той или иной формой психического
нездоровья. Почему наш мозг так подвержен сбоям?
Начнем
с того, что хорошо известно, но, вероятно, недостаточно принимается во
внимание. По большей части умственные расстройства – это не случайные
беспрецедентные аномалии, свойственные исключительно тем, кто ими страдает.
Скорее они образуют группы симптомов, которые возникают вновь и вновь. Когда
происходит психический срыв, симптомы обычно проявляют себя узнаваемым образом,
инженеры это называют «известными видами повреждений». У данной марки и модели
автомобиля, скажем, может быть прекрасный мотор, но постоянные проблемы с
электрикой. Человеческий мозг подвержен своим функциональным нарушениям,
достаточно хорошо описанным, чтобы классифицировать их в человеческом
эквиваленте чилтоновского гида по ремонту автомобилей – четвертом издании
«Диагностического и статистического справочника психических расстройств» (пятое
планируется в 2011 году).
Разумеется,
симптомы по-разному проявляются у разных людей – как с точки зрения их тяжести,
так и количественно. Как не бывает двух одинаковых простуд, точно так же любое
психическое заболевание по-своему протекает у каждого человека. У некоторых
людей, страдающих депрессией, например, наблюдается дисфункциональный конфликт,
а у других нет; некоторые больные шизофренией слышат голоса, другие нет.
Так
что диагностика остается неточной наукой. Есть ряд расстройств (таких, как
синдром диссоциации личности), само существование которых спорно, а есть
«состояния», к которым долгие годы приклеивали ярлык отклонения, хотя они
таковыми никогда и не были (например, гомосексуальность, исключенная из
третьего издания «Диагностического и статистического справочника психических
расстройств» в 1973 году.[62]
Но в целом поразительное число вариантов нарушения работы человеческого мозга и
определенных симптомов, таких как дисфория (сниженное настроение), тревожность,
паника, паранойя, бредовые и навязчивые идеи, неконтролируемая агрессия,
воспроизводится вновь и вновь.
Когда
мы наблюдаем одни и те же модели снова и снова, напрашивается мысль, что этому
должны быть причины. Что же представляет собой мозг, который дает такого рода
сбои?
Стандартный
прием в эволюционной психологии, в ее направлении, связанном с психическими
расстройствами, – объяснять те или иные нарушения (или эпизодические симптомы)
с точки зрения скрытых преимуществ.[63]
Один пример мы видели в первой главе, некое сомнительное утверждение, что
шизофрения может быть продуктом естественного отбора, благодаря
предположительной пользе передаваемых по наследству галлюцинаций у племенных
шаманов. Но есть и многие другие. Агорафобия может рассматриваться как
«потенциально адаптивное последствие повторяющихся приступов паники»,
тревожность может интерпретироваться как способ «изменить мышление, поведение и
философию в собственных интересах». Депрессия между тем предположительно
развивалась для того, чтобы позволить человеку «принять поражение… и привыкнуть
к тому, что в противном случае расценивалось бы как снижение общественного
статуса».
Надеюсь,
вы согласитесь со мной, что эти примеры не слишком убедительны. Становились ли
шизофреники шаманами чаще, чем другие люди? Правда ли, что те, кто стал
шаманом, были успешнее в воспроизведении жизнеспособного потомства, чем
нешизофреники? Даже если это так, то сколько же должно было быть шаманов, чтобы
объяснить, почему по меньшей мере один человек на каждую сотню страдает этим
расстройством? Теория депрессии первоначально кажется более обнадеживающей; как
отмечают авторы, какому-нибудь незаметному члену сообщества было легче принять
волю альфа-самца, чем сражаться в заранее проигрышной для него битве. Более
того, депрессия часто идет именно от осознания своего более низкого статуса в
сравнении с остальными членами группы. Но соответствует ли фактам теория
общественного соревнования? Депрессия – это не приятие поражения, а как
раз неприятие поражения. Один мой друг, назовем его Т., годами страдал
от депрессии. Нельзя сказать, что его социальный статус низок (на самом деле он
немалого добился). Тем не менее, хотя объективно в его жизни и не происходит
ничего плохого, он не принимает ее, он страдает. Депрессия не мобилизует его ни
улучшить свою жизнь, ни успокоиться; вместо этого она парализует его, и трудно
поверить в то, что подобный паралич может быть адаптивным.
Конечно,
я далек от мысли, что какая-то одна сомнительная теория перечеркивает все
направление; разумеется, некоторые психические нарушения дают пользу, и,
вероятно, подобные случаи можно найти. Классический пример, когда физическое
отклонение сопряжено с явным выигрышем, – это ген, связанный с
серповидно-клеточной анемией. Наличие двух копий такого гена опасно, но одна
копия гена наряду с нормальной копией может существенно снизить риск заразиться
малярией. Там, где широко распространена малярия (например, на юге Сахары), это
преимущество перевешивает потенциальные издержки. И соответственно, копии таких
генов гораздо более распространены среди людей, чьи предки жили в тех краях,
где свирепствовала малярия.
Но
хотя некоторые физические отклонения демонстрируют положительные побочные эффекты,
большинство из них, вероятно, не обещают утешительного приза, и, пожалуй, за
исключением социопатии[64],
не думаю, чтобы я когда-либо наблюдал случай психической аномалии, дающей
преимущества или способной убедительно компенсировать издержки. Если и есть какие-то
примеры побочных выгод от душевной болезни, то их очень мало, не существует
такой мозговой серповидно-клеточной анемии, защищающей от «ментальной малярии».
Депрессия, например, не спасает от тревожности (как защищает от анемии
склонность к образованию серповидных форм), а сопутствует ей. Измышления о
предполагаемых преимуществах психических заболеваний по большей части кажутся
высосанными из пальца. Слишком часто это напоминает мне вольтеровского доктора
Панглосса, который во всем находил положительную сторону: «Вот, заметьте, носы
созданы для очков, потому мы и носим очки. Ноги, очевидно, назначены для того,
чтобы их обувать, вот мы их и обуваем. Камни были сотворены для того, чтобы их
тесать и строить из них замки».[65]
Это
правда, что многие нарушения чем-то компенсируются, но объясняется это как
правило от обратного. Тот факт, что некоторые нарушения как-то окупаются, не
означает, что издержки перекрываются, точно так же не обязательно это
объясняет, почему они возникли. Неужели счастливый человек станет добровольно
принимать гипотетический депрессант – назовем его «антипрозак» или «антизолофт»
– для того, чтобы добиться преимуществ, которые могут предположительно
сопровождать депрессию?
По
крайней мере кажется правдоподобным, что некоторые нарушения (или симптомы)
могут выступать не как прямое приспособление, а как неадекватный «дизайн» или
явное поражение. Как в машине может кончиться горючее, так и мозг может
исчерпать свои нейромедиаторы или молекулы внутри их (или работать на пределе).
Мы рождаемся с защитными механизмами (или способностью приобрести их), но ничто
не гарантирует, что все эти механизмы окажутся мощными или безотказными. Мост,
способный выдержать напор ветра в 100 миль в час, но не 200, разрушится от
порывов в 200 миль в час не оттого, что приспособлен выйти из строя при
таком сильном ветре; он развалится потому, что рассчитан на меньшие нагрузки.
Аналогично и другие сбои, особенно те, что бывают чрезвычайно редко, могут быть
результатом просто «генетических помех», случайных мутаций, которые уж точно не
несут никаких преимуществ.
Даже
если мы отвлечемся от таких возможностей, как явный генетический шум,
неправильно полагать, что, когда психическое заболевание сохраняется в
популяции, это говорит о его положительных сторонах. Горькая правда состоит в
том, что эволюция «заботится» не о нашей внутренней жизни, а только о
результатах. Пока люди с отклонениями воспроизводятся в разумных пропорциях,
разрушительные генетические варианты могут и будут сохраняться в видах,
независимо от того, что они покидают своих носителей, сопровождаясь
эмоциональными страданиями.[66]
Все
это рассмотрено в профессиональной литературе, но почти не уделено внимания
другой возможности: бывает ли так, что некоторые аспекты психического
нездоровья сохраняются не потому, что несут что-то положительное, а просто
потому, что эволюция не готова взять и перекроить нас на иной лад?
Возьмем,
например, тревожность. Эволюционные психологи могут сказать вам, что
тревожность подобна боли: и то и другое существует, чтобы побуждать страдающих
ими к определенным действиям. Может, и так, только означает ли это, что
тревожность – неизбежный компонент мотивации, который должен присутствовать в
любом хорошо функционирующем организме? Вовсе нет, тревога могла подталкивать к
действию некоторых наших предков до появления речи и сознательного мышления. Но
это не делает ее правильной системой для таких созданий, как мы, обладающих
способностью рассуждать. Наоборот, если бы мы, люди, были построены
основательно, для тревог вообще не было бы места: наши способности к
умозаключениям более высокого уровня могли бы сами справляться с планированием.
Совершенно неясно, какую полезную функцию несла бы тревожность у созданий,
обладающих способностью ставить и воплощать в жизнь собственные цели.
Подобные
доводы уместны и в отношении потребности человека в самоуважении, социальном
одобрении и положении, – словом, источнике многих психологических проблем.
Вероятно, в любом мире, какой мы можем вообразить, для большинства созданий
самым важным благом было бы общественное признание, но непонятно, почему
отсутствие такового непременно должно приводить к эмоциональной боли. Почему не
быть такими, как буддистские роботы, которых я упоминал в прошлой главе, –
всегда осознающими (и реагирующими на) обстоятельства, но никогда не
страдающими из-за них?
Научная
фантастика? Как знать. Задача этих рассуждений – донести следующую мысль: если
вообразить иных существ и другие способы жить и дышать, то вовсе не очевидно,
что описанные выше расстройства непременно должны сопровождать этих существ в
ходе эволюции.
Собственно,
вот к чему я веду: подверженность умственным расстройствам может быть
следствием, во всяком случае отчасти, неблагоприятного стечения обстоятельств в
ходе нашей эволюционной истории. Возьмем, к примеру, нашу видовую
подверженность разного рода зависимостям: от сигарет, алкоголя, секса, азартных
игр, видеоигр, чатов или Интернета. Зависимость может возникать: когда
ближайшие удовольствия субъективно воспринимаются как огромные (как в случае
героина, который по описаниям многих лучше секса); когда отдаленные блага
субъективно воспринимаются как несущественные (людьми, которые без этого
чувствуют себя подавленными, которые не понимают, зачем им жить); когда мозг
отказывается посчитать истинное соотношение между первым и вторым. (Последнее,
вероятно, случается с пациентами с повреждениями вентромедиальной
префронтальной коры; они, очевидно, не в состоянии сопоставить выгоды и
издержки, а кажутся равнодушными к их соотношению.) В любом случае зависимость
можно рассматривать как частный случай общей проблемы: нашего видового
несовершенства, идущего от дисбаланса атавистической и современной систем
самоконтроля.
Разумеется,
есть и другие факторы, например, насколько сильное удовольствие получает данный
индивид от данного вида деятельности; некоторые кайфуют от азартных игр, а
другие предпочтут сэкономить свои денежки. Разные люди подвержены разным видам
зависимости и в различной степени. Но в известном смысле все мы рискуем.
Поскольку баланс между отдаленным и ближайшим будущим был предоставлен весьма
беспринципной жестокой конкурентной борьбе, уязвимость человечества в отношении
зависимости практически неотвратима.
Если
разрыв в наших системах самоконтроля представляет одно направление
неблагополучия в человеческом мышлении, то склонность к подтверждению и
мотивированные умозаключения комбинируются, чтобы создать еще одно:
относительную легкость потери связи с реальностью. Когда мы «теряем ее» или
раздуваем из мухи слона, мы упускаем из виду перспективу, настолько раздражаясь,
например, что исчезают все признаки объективности. Это не делает нам чести, но
это часть человеческого бытия; поистине человек горяч.
Иными
словами, как правило, большинство из нас с этим справляется; мы можем потерять
связь с реальностью в процессе спора, но в конце концов делаем глубокий вдох
или стараемся как следует выспаться и идем дальше. («Это было свинством с твоей
стороны всю ночь мотаться неизвестно где и даже не позвонить, но признаю, что
мои слова, что ты никогда не звонишь, перебор. Отчасти». Или, как пела
Кристин Лавин: «Я не права, прости… но все же я сержусь».)
Что
заставляет нормального человека время от времени выходить из себя? Адская смесь
когнитивных клуджей: 1) неуклюжий аппарат самоконтроля (который в самые
ответственные моменты обычно передает власть рефлексивной системе; 2)
болезненная склонность к подтверждению (которая убеждает нас, что мы всегда правы,
или почти всегда); 3) а с ней заодно – мотивированные суждения (заставляющие
нас отстаивать наши убеждения, даже если они сомнительны; и 4) контекстуально
обусловленный характер памяти (так что если мы недовольны чем-то, то мы склонны
вспоминать и прошлые раздражавшие нас ситуации, связанные с раздражителем). Вот
вкратце о том, что сохраняет преобладание «горячих» систем над холодным
разумом; а отсюда вытекают нередко кровавые последствия.
Эта
гремучая смесь при отсутствии тормозящих механизмов, которые нормальные люди
используют для того, чтобы успокоиться, может усиливать и даже вызывать
некоторые другие проявления психического заболевания. Возьмем, например,
обычный симптом паранойи. Когда кто-то встает на этот скользкий путь – по какой
угодно причине, – можно никогда от этого не отделаться, так как паранойя плодит
паранойю. Как говорится в старой пословице: даже у параноика есть настоящие
враги; ибо если есть склонность искать подтверждения и отрицать свидетельства
противоположного (то есть мотивированные умозаключения), то все, что
необходимо, – это один настоящий враг. Параноик замечает и вспоминает
свидетельства, подкрепляющие его паранойю, не обращает внимания на
доказательства обратного, и цикл воспроизводится сам по себе.
Страдающие
депрессией слишком часто теряют связь с реальностью, но происходит у них это
несколько по-другому. Депрессивные люди обычно не галлюцинируют (в отличие,
например, от многих шизофреников), но их ощущение реальности часто искажается
оттого, что они фиксируются на отрицательных сторонах своей жизни – потерях,
ошибках, упущенных возможностях и т.д., – а это ведет к тому, что я называю зацикливанием,
одному из главных симптомов депрессии. В более ранних исследованиях, весьма
растиражированных, выдвигалось предположение, что страдающие депрессией люди
более реалистичны, чем довольные жизнью, но сегодня чаще пишут о том, что
депрессия – это нарушение, поскольку подверженные ей личности неоправданно
сосредоточиваются на негативных вещах, загоняя себя в нисходящий водоворот, из
которого невозможно выбраться. Как писал Марк Твен в редкий момент серьезности,
«что бы ни печалило нас, это нельзя назвать мелочью; по законам вечности потеря
ребенком куклы и потеря королем короны ничем не отличаются». Многие, если не
все депрессии, начинаются с преувеличения потери, что в свою очередь может
непосредственно вытекать из того, насколько воспоминания обусловлены
контекстом. Печальные воспоминания накладываются на еще более печальные, а те,
в свою очередь, порождают еще и еще более печальные. Для человека,
переживающего депрессию, каждая свежая обида подтверждает фундаментальный
взгляд на жизнь: она несправедлива, и жить незачем. Тем самым контекстуально
обусловленная память копит воспоминания прошлых несправедливостей. (Между тем
мотивированные умозаключения часто заставляют депрессивных людей игнорировать
данные, противоречащие их общему представлению о бренности жизни.) Без
некоторой доли самоконтроля или способности сместить фокус цикл будет
возобновляться вновь и вновь.
Такие
возвратные циклы – не только в моменты спада, но также и на подъеме, в
маниакальной фазе – могут даже способствовать биполярному нарушению. Согласно
Кей Редфилд Джеймисон, психологу высокого ранга, которая сама боролась с
маниакально-депрессивным синдромом, когда человек страдает биполярным
синдромом,
испытываешь особую боль, эйфорию,
одиночество, ужас, составляющие этот вид безумия… Когда ты на подъеме, это
потрясающе. Идеи и чувства стремительно мелькают, как падающие звезды… Но в
какой-то момент все меняется. Скорость появления мыслей становится чрезмерной,
их становится слишком много; всепоглощающее смятение вытесняет безмятежность… безумие
ваяет свою реальность.
Без
достаточной внутренней способности когнитивного и эмоционального контроля
биполярный человек в маниакальном состоянии может оторваться от реальности,
теряя всякую с ним связь. Джеймисон пишет, как в одном из ее ранних маниакальных
эпизодов она обнаружила себя «в восхитительной иллюзии летнего дня, я
скользила, парила, летала, огибая то одну, то другую облачную гряду, минуя
звезды и ледяные поля… Я помню, как пела "Возьми меня на луну",
проносясь мимо Сатурна, и мне было ужасно весело. Я видела и переживала то, что
бывает только во сне или мечтах». Маниакальные состояния порождают маниакальные
мысли, и спираль раскручивается.
Даже
бредовые состояния, обычные при шизофрении, могут усиливаться – хотя, вероятно,
и не возникать впервые – эффектами мотивированных умозаключений и
контекстуальной памяти. Нередко шизофреник, например, начинает верить в то, что
он Иисус, и строит целый мир вокруг этой идеи, «вдохновленной», в частности,
двумя неразлучными силами – склонностью к подтверждению и мотивированным
умозаключениям. Однажды психиатр Милтон Рокич свел вместе трех таких пациентов,
каждый из которых считал себя Сыном Божьим. Сначала Рокич надеялся, что эти
трое признают неуместность таких представлений и каждый разубедится в своих
заблуждениях. Вместо этого все трое пришли в сильное волнение. Каждый с еще
большим упорством принялся отстаивать свои бредовые идеи, и каждый разработал
собственный набор логических обоснований. У видов, сочетающих контекстуально
обусловленную память со склонностью к подтверждению и сильной потребностью в
конструировании кажущихся связными жизнеописаний, потеря связи с реальностью
может быть своего рода профессиональным риском.
Депрессия
(и, возможно, биполярный синдром), по-видимому, провоцируется и другим
эволюционным дефектом: степенью нашей зависимости от довольно прихотливого
аппарата удовольствий. Как мы видели в предыдущей главе, задолго до того, как
возникла сложная рассуждающая система, наши догоминидные предки
предположительно ставили свои цели, руководствуясь компасом удовольствий (во
избежание их противоположности – боли). Хотя современные человеческие существа
имеют более сложные механизмы постановки цели, тем не менее удовольствие и
боль, вероятно, все еще формируют сердцевину нашего механизма целеполагания.
Для людей, склонных к депрессии, это может означать двойной удар; вдобавок к
боли депрессии возникает еще один симптом – паралич. Почему? Вполне возможно,
потому, что внутренний компас удовольствия становится нечувствительным,
оставляя страдающего депрессией с недостатком мотивации и движущих механизмов.
Для существа, которое держит свои настроения отдельно от целей, дисфункции,
обычно сопровождающей депрессию, может просто не случиться.
Итак,
во многих отношениях психические болезни могут происходить или по крайней мере
усиливаться из-за причуд нашей эволюции: это контекстуальная память, искажающие
эффекты склонности к подтверждению и мотивированных суждений, и своеобразная
раздробленность нашей системы самоконтроля. Четвертый фактор влияния, вероятно,
наша видовая жажда объяснений, которая часто ведет нас к созданию историй из
разрозненных фактов. Как игрок может стремиться «объяснить» каждый кувырок
игральной кости, так и люди, пораженные шизофренией, могут использовать
когнитивные механизмы объяснений для того, чтобы связать воедино свои голоса и
бредовые идеи. Из этого не следует, что люди с отклонениями не отличаются от
здоровых, скорее это говорит о том, что их нарушения начинаются с уязвимости
нервной системы, свойственной нам всем.
Следовательно,
вероятно, не случайно многие советы специалистов по когнитивно-поведенческой
терапии, связанных с лечением депрессии, направлены на то, чтобы помочь обычным
людям справиться с ошибочными умозаключениями. В известной книге «Хорошее
самочувствие» Дэвид Берне, например, описывает десять основных когнитивных
ошибок, таких как «сверхобобщение» и «персонализация», которые делают люди в
состоянии повышенной тревожности или депрессии. Сверхобобщение – это процесс
ошибочного «видения одного события как части нескончаемой модели поражения»;
персонализация – это ложное представление, что мы (а не внешние события)
ответственны за все плохое, что происходит. Обе ошибки, вероятно, идут от
человеческой склонности судить о большом на основании малого. Одна неудача еще
не означает несчастной судьбы, тем не менее людям свойственно воспринимать
последнюю, худшую новость как знак, будто вся жизнь с ее взлетами и падениями
отрицается одним-единственным трагическим эпизодом. Таких неправильных
представлений просто не может быть у гипотетических видов, способных придавать
одинаковое значение свидетельствам, как подтверждающим их представления, так и
не подтверждающим.
Я
не хочу сказать, что депрессия (или другое нарушение) всего лишь продукт
недостатка наших способностей объективно оценивать данные, но очень похоже, что
неуклюжие механизмы нашего клуджевого сознания закладывают шаткий фундамент.
Если
нарушения берут начало из дефектности нашей конструкции, то они определенно
простираются и за ее рамки. В той мере, в какой в психических отклонениях
виноваты гены, подразумевается эволюция – как адаптация или как-то иначе. Но
изначальное несовершенство нашей психики иногда вызывает землетрясения, а
иногда едва ощутимые толчки. Эволюция, какой бы случайной она ни была, не способна
объяснить все. Наиболее распространенные психические расстройства, похоже,
зависят от генов, сформированных в ходе эволюции, но также и от средовых
факторов, пока еще не очень хорошо понятых. Если из двух идентичных близнецов
один страдает шизофренией, у другого с вероятностью выше средней она тоже может
возникнуть, но так называемый «процент согласия» – риск, что у одного близнеца
будет нарушение, если оно есть у другого, составляет всего 50%. Уже по этой
причине неверно относить любой вид психического нарушения к особенностям
эволюции.
В
то же время можно смело утверждать, что ни один толковый и милосердный дизайнер
не создал бы человеческий мозг столь уязвимым. Наша ментальная хрупкость
заставляет нас сомневаться в том, что мы являем собой продукт сознательного
творения, а не случайности и эволюции.
Все
это приводит нас к последнему вопросу, вероятно, самому важному: если наш мозг
– клудж, то можно ли это как-то исправить?
8
Истинная мудрость
Боже,
дай мне смирение принять то, чего я не в силах изменить, мужество, чтобы
изменить то, что я могу, и мудрость отличить одно от другого.
Рейнольд
Нибур
Мудр
тот, кто знает, что он знает то, что знает, и знает, что он не знает того, чего
не знает.
Конфуций
Человек
обладает интеллектуальными способностями, не имеющими себе равных. Мы умеем
разговаривать, размышлять, танцевать, петь. Мы можем рассуждать о политике и
справедливости; мы способны работать не только для собственного блага, но и на
благо человечества. Мы овладеваем математикой и физикой, изобретаем, учимся и
слагаем стихи. Ни один другой вид не способен на что-либо подобное.
Но
не все так безоблачно. Механизмы речи и сознательных умозаключений привели к
огромным культурным и техническим достижениям, но наш мозг, который развивался
на протяжении миллиардов лет у догоминидных предков человека, не справляется.
Наш генетический материал эволюционировал в основном до существования речи и
сознательного мышления, до появления существ, подобных нам. И множество
несовершенств сохраняется.
В
этой книге мы рассмотрели некоторые дефекты нашей когнитивной структуры: это
склонность к подтверждению, ментальная контаминация, эффект якоря, фрейминг,
неадекватный самоконтроль, зацикливание, иллюзия фокусирования, мотивированные
умозаключения, ошибки памяти, не говоря уже о забывчивости, амбивалентности
лингвистической системы и подверженности человека расстройствам психики. Наша
память, будучи контекстуально зависимой, плохо приспособлена ко многим
требованиям современной жизни, а наша система самоконтроля почти безнадежно
разрегулирована. Наши наследственные механизмы формировались в другом мире, и
наша современная рассуждающая система не выдерживает влияния прошлого. В каждой
рассмотренной нами области, начиная с памяти и убеждений, принятия решений,
языка, удовольствия, мы видели, что наш мозг, формировавшийся параллельно
опережающему развитию технологий, далек от совершенства. Ни один из аспектов
человеческой психологии не мог быть создан грамотным дизайнером, напротив,
единственный разумный способ определить их – это назвать остатками, пережитками
прошлого, отходами эволюции.
В
известном смысле приведенные мной доводы – часть давней традиции. Мысль Гулда о
пережитках прошлого, во многом вдохновившая эту книгу, восходит к Дарвину,
который начал свою легендарную книгу «Происхождение человека» со списка
«бесполезных или практически бесполезных» атрибутов – волосы на теле, зубы
мудрости, рудиментарная хвостцовая кость, или копчик. Такие причуды природы
были необходимы Дарвину для его аргументации.
Тем
не менее несовершенства ума редко рассматривались в контексте эволюции. Почему
бы это? Очень просто. Прежде всего большинство из нас вовсе не хочет обнаружить,
что человеческие способности к познанию далеко не совершенны, и потому, что это
идет вразрез с нашими представлениями, и потому, что портрет человечества может
оказаться не слишком привлекательным. Этот фактор затрагивает некоторых
представителей науки, которые пытаются характеризовать человеческое поведение;
чем упорнее мы уходим от рациональности, тем труднее математикам и экономистам
определить наши решения в жесткой системе уравнений.
Второй
фактор может исходить из загадочной популярности креационизма и его последнего
варианта, идеи разумного замысла. Немногие теории столь же основательно
подкреплены научными свидетельствами эволюции, тем не менее большая часть
обычных людей отказывается принимать их. Для любого ученого, знакомого с этими
фактами – начиная с данных кропотливых исследований эволюции на Галапагосских
островах (описанных Джонатаном Уайнером в замечательной книге «Клюв вьюрка») и
заканчивая деталями изменений молекулы в результате реорганизации генома, – это
упорное противостояние теории эволюции выглядит абсурдным.[67] Поскольку во многом это идет
от людей, которым трудно принять идею, что хорошо организованная структура
могла возникнуть не по заранее продуманному плану, ученые часто вынуждены
подчеркивать взлеты эволюции – случаи высокоорганизованных структур, которые
возникли по счастливому стечению обстоятельств.
Такой
подход привел к важному пониманию того, как слепой процесс эволюции может
создавать системы потрясающей красоты – но в ущерб столь же активным
исследованиям силы несовершенства. Хотя ничего плохого в изучении величайших
взлетов природы и нет, но нельзя получить полной и объективной картины, если
видеть одни лишь высоты.
Однако
польза понимания несовершенств касается не только простого баланса. С научной
точки зрения каждый клудж содержит разгадку нашего прошлого; коль скоро налицо
неуклюжесть решения, есть представление о том, как природа соединила элементы
нашего мозга; не будет преувеличением сказать, что история эволюции – это
история наложения технологий и клуджи помогают обнажить швы.
Каждый
клудж к тому же подчеркивает фундаментальную нелепость креационизма:
предположения, что все мы – произведение некоего всевидящего существа.
Креационисты могут стоять до конца, но несовершенство (в отличие от
совершенства) подрезает крылья фантазии. Одно дело – рисовать в воображении
всезнающего инженера, создающего идеальное глазное яблоко, а другое –
представлять инженера, который схалтурил и соорудил дефектный позвоночник.
Есть
и практическая сторона: исследования человеческих особенностей могут во многом
открыть глаза на состояние человека; как говорят анонимные алкоголики, прежде
всего надо признать проблему. Чем лучше мы осмыслим неуклюжесть природы, тем
скорее сможем с этим справиться.
Когда
мы рассматриваем несовершенство как возможность понять что-то, в первую очередь
мы видим, что не на каждое из несовершенств надо обращать внимание. Мне понадобилось
много времени, прежде чем я признал, что мой калькулятор лучше меня извлекает
квадратный корень, и я не вижу ничего особенного в том, чтобы болеть за Гарри
Каспарова в матче с компьютерным оппонентом «Дип Блю» на мировом чемпионате по
шахматам. Если компьютеры пока еще не способны обыгрывать нас в шахматы и в
викторинах, скоро они смогут. Соревнование Джона Генри с машиной было
благородным, но, как теперь понятно, безнадежным делом. Во многих отношениях
машины имеют (или неизбежно будут иметь) преимущество перед нами, и мы должны
признать это. Немецкий химик Эрнст Фишер мечтал, что «по мере того, как машины
будут становиться все более и более эффективными и совершенными, все очевиднее
будет, что величие человека в несовершенстве». Существо, созданное инженером,
не сможет познать любовь, наслаждаться искусством, понимать поэзию. С позиции
нечеловеческой рациональности время, потраченное на создание произведения
искусства и наслаждение им, «лучше» было бы использовать для сбора орехов на
зиму. С моей точки зрения, искусство неотделимо от радости человеческого
существования. Так давайте из неопределенности создавать стихи, а из эмоций и
иррациональности – песни и литературу.
Конечно,
не надо приветствовать каждую причуду человеческого сознания. Поэзия – это
прекрасно, а вот стереотипность мышления, эгоцентризм, подверженность человека
паранойе и депрессии – нет. Приятие всего присущего нашей биологической
структуре означало бы согласие с версией концепции «натуралистического
заблуждения», смешивающей понятия естественного и правильного. Хитрость в том,
чтобы рассортировать наши когнитивные особенности и решить, какая из них
заслуживает особого внимания, а какую оставить в покое (или даже одобрить ее).
Например,
нет особого смысла беспокоиться из-за неточности речевых оборотов в обычной
жизни, так как мы почти всегда можем использовать контекст и диалог, чтобы
уточнить, что наш собеседник имеет в виду. Не стоит запоминать телефонные
номера всех, кого мы знаем, поскольку наша память просто не создана для этого
(и на то у нас есть сотовые телефоны). Для большинства повседневных занятий
нашего мозга более чем достаточно. Как правило, он способен обеспечить нас
пищей, работой, оградить от затруднений и неприятностей. Поскольку я не выношу
беззаботной жизни среднего домашнего кота, я ни за какие коврижки не променял
бы свой мозг на мозг Флаффи[68].
Но
отсюда не следует, что наши интеллектуальные достижения не могли бы быть лучше.
В связи с этим я выдвигаю 13 рекомендаций, каждая из которых проверена на
практике.
1.
Всегда, если только возможно, рассматривайте альтернативные гипотезы.
Как
мы видели, люди не имеют привычки оценивать факты бесстрастно и объективно.
Один из простейших способов улучшить нашу способность обдумывать и размышлять –
это приучить себя рассматривать альтернативные гипотезы. Достаточно хотя бы
заставить себя записать список альтернатив, чтобы повысить надежность
собственных рассуждений.
Ряд
исследований показал ценность простого принципа «Рассматривай противоположное»;
другие исследования говорят о пользе мышления по принципу «противоречия фактам»
– когда рассматривается, что могло или может случиться, вместо того, чтобы
концентрироваться на том, что происходит сейчас.
Чем
больше мы размышляем об идеях и возможностях, отличающихся от привычных для
нас, тем лучше. Как сказал Роберт Рубин (первый секретарь министерства финансов
при Билле Клинтоне): «Некоторые люди, с которыми я встречался на разных этапах
моей карьеры, кажутся более уверенными во всем, чем я уверен вообще в
чем-либо». Правильный выбор часто требует понимания не только того варианта,
который в конечном счете принимается, но и тех, которые отвергаются.
2.
Перефразируйте вопрос.
Какое
мыло лучше: беспримесное на 99,4% или с содержанием токсичных веществ 0,6%?
Политики, рекламисты, и даже персонал нашего местного супермаркета постоянно
хитрят в рекламе, которую мы слышим, видим и читаем. Всё стараются представить
в самом положительном свете. Наша задача – как потребителей, как избирателей,
как граждан – быть начеку и развить у себя привычку переосмысливать все, о чем
нас спрашивают. (Должен ли я толковать законодательство в отношении «помощи в
самоубийстве» как попытку защитить людей от убивающих докторов или как способ
дать человеку умереть с достоинством? Должен ли я относиться к возможности
сокращения часов работы по совместительству как к уменьшению зарплаты или как к
шансу проводить больше времени с детьми?) Контекстуальная память подразумевает,
что мы всегда плывем против течения: то, как мы думаем о чем-то, неизбежно
формирует то, что мы запоминаем, а то, что мы помним, влияет на наши ответы.
Стоит задавать каждый вопрос более чем одним способом, это очень мощный способ
преодолеть подобную склонность.
3.
Всегда помните, что корреляция не подразумевает причинно-следственной связи.
Верите
или нет, но если взять все население Соединенных Штатов, то размер обуви очень
сильно соотносится с обычными знаниями; люди с большим размером обуви лучше
разбираются в истории и географии, чем люди с маленькими ногами. Но это вовсе
не значит, что, покупая обувь большего размера, вы поумнеете или даже что
обладание большой ступней делает вас умнее. Эта корреляция, подобно многим
другим, кажется более значимой, чем она есть на самом деле, так как мы обладаем
естественной склонностью смешивать корреляцию и причинно-следственную связь.
Описанная мной корреляция действительно существует, но никаких выводов – что
один фактор обусловливает другой – из этого не следует. В этом примере причина
в том, что люди с самыми маленькими ногами (и самыми маленькими башмаками) –
это последние пришельцы на нашей планете: это малыши, человеческие существа,
слишком юные, чтобы посещать уроки истории. Мы учимся по мере того, как растем,
но отсюда не следует, что рост (сам по себе) учит нас.[69]
4.
Никогда не забывайте о размере вашей выборки.
Будь
то медицина или бейсбольная статистика, люди часто не принимают во внимание
количество данных, которые они привлекают для своих выводов. Каждое конкретное
событие может быть спонтанным, но повторяемость одной и той же модели вновь и
вновь свидетельствует о малой вероятности того, что это было случайностью.
Говоря языком математики, чем больше выборка, тем надежнее оценка. Вот
почему опрос 2000 человек гораздо более надежен, чем опрос 200 человек. И
наблюдение, что кто-то успешно отбивает мяч в 40% попыток на 10 бейсбольных
играх, несравнимо с ситуацией, когда видишь те же достижения игрока на
протяжении 162 игр сезона.
Чем
более очевиден этот факт, тем легче он ускользает из памяти. Человек, впервые
сформулировавший это понятие, известное как закон больших чисел, считал, что
это настолько очевидно, что «любой дурак знает [это] интуитивно»; и тем не
менее люди постоянно игнорируют это. Мы никак не можем прекратить искать
«объяснения» закономерностей, даже при ограниченных наблюдениях (скажем, по
нескольким бейсбольным играм или по одному дню работы биржи), которые могут
ровным счетом ничего не отражать. Бумер достиг результата в 40% на последних
десяти играх, потому что «действительно хорошо видит мяч», а никак не (если
говорить о статистике) в силу случайности, когда более слабый игрок в течение
нескольких дней выглядит более сильным. Биржевые аналитики делают то же самое,
привязывая изменения на рынке к конкретным новостным событиям. «Рынок сегодня
на подъеме, так как Acme Federated неожиданно сообщила о высоких результатах за
четвертый квартал». Когда в последний раз вы слышали, чтобы аналитик сказал:
«На самом деле сегодняшний рост на рынке не более чем случайное колебание»?
К
счастью, психолог Ричард Нисбетт показал, что обычных людей можно научить
внимать закону больших чисел не более чем за четверть часа.
5.
Предвосхищайте собственную импульсивность.
Одиссей
привязал себя к мачте, чтобы противостоять искушению сирен; нам всем стоит
брать с него пример. Сравните продукты, которые мы выбираем на неделю, если мы
недавно плотно поели, с той дрянью, которую хватаем, когда голодны. Если мы
заранее настраиваем себя покупать только то, что нам нужно, мы возвращаемся
домой с более здоровыми продуктами. «Рождественские клубы», программы отчисления
денег в течение всего года на праздничный шопинг совершенно нерациональны с
точки зрения экономиста – зачем резервировать деньги, когда ликвидность
предпочтительна? – но они кажутся совершенно разумными, если признать наши
меняющиеся ограничители. Искушение сильнее всего, когда мы его видим, поэтому
часто мы оказываемся в выигрыше, если планируем на будущее, а не поддаемся
сиюминутным порывам. Мудрый человек ведет себя соответственно.
6.
Недостаточно просто ставить цели.
Составляйте
планы с учетом непредвиденных обстоятельств. Обычно практически невозможно
следовать туманным целям типа: «Я собираюсь похудеть» или «Я планирую закончить
эту статью досрочно». Недостаточно и постановки более конкретной цели («Я
планирую сбросить два с половиной килограмма»). Но исследования психолога
Питера Голлвитцера показывают, что, трансформируя цели в планы с учетом
непредвиденных обстоятельств – в форме «если X, значит У» (например, «Если я
увижу картофель фри, я обойду его стороной»), мы можем увеличить наши шансы на
успех.
Признание
несовершенства нашей природы помогает объяснить, почему развившееся позднее
сознательное мышление, надстроенное над атавистической рефлексивной системой,
имеет ограниченный доступ к штурвалу нашего мозга; вместо этого практически все
должно проходить через древнюю рефлексивную систему. Специальные чрезвычайные
планы дают возможность обойти эти ограничения, заранее придав целям форму
(если/то, базовую для всех рефлексов), доступную для понимания нашей
атавистической системой. В той мере, в какой мы можем говорить на языке нашей
старой системы, мы увеличиваем наши шансы достигнуть цели.
7.
По возможности не принимайте важных решений, когда вы утомлены или ваша голова
занята другими делами.
Обдумывание
важных вопросов в усталом (или расстроенном) состоянии равносильно вождению
автомобиля в алкогольном опьянении. Когда мы устаем, мы полагаемся больше на
нашу рефлексивную систему и меньше на рассуждающую; точно так же, когда мы
отвлекаемся. Одно исследование, например, показало, что здравомыслящий
покупатель, перед которым стоит выбор между фруктовым салатом и шоколадным
пирожным, с большей вероятностью предпочтет пирожное, если его заставить
одновременно вспоминать семизначный номер. Если мы хотим слушаться только наших
эмоций, прекрасно, но, если мы предпочитаем рациональность, важно создать
«условия для победы», а это означает, что для важных решений необходим
адекватный покой и полная концентрация.
8.
Всегда соотносите выгоды и издержки.
Звучит
как само собой разумеющееся, но это отнюдь не то, что присуще человеку от
природы. Люди склонны пребывать либо в «превентивном» состоянии духа,
подчеркивая издержки своих действий (если я не пойду на концерт, я потеряю
деньги, которые потратил на билеты), либо в «промотивном» настроении, акцентируя
преимущества (там будет здорово, ничего страшного, если утром опоздаю на
работу). Разумное суждение, безусловно, требует взвесить и плюсы, и минусы, но
если не проявить осторожности, то на нашем пути встанут наши настроения и
темперамент.
Кстати,
обращайте внимание на то, что некоторые экономисты называют «альтернативными
издержками»; какую бы инвестицию вы ни делали, финансовую или любую другую,
подумайте, что вы могли бы предпринять вместо этого. Если вы делаете что-то
одно, вы не можете делать другое, а об этом мы часто забываем. Допустим,
например, что люди пытаются решить, имеет ли смысл инвестировать $100 млн в
государственные фонды на бейсбольный стадион. Эти $100 млн могут принести
некоторый доход, но мало кто оценивает подобные проекты с точки зрения того,
что еще можно сделать с такими деньгами, от каких возможностей (например,
выплатить долг, чтобы сократить в будущем уплату процентов, или построить три
новые школы) вы отказываетесь, чтобы построить стадион. Поскольку такие затраты
не выступают перед нами с готовыми ценниками на виду, обычно мы их игнорируем.
На индивидуальном уровне учет издержек подразумевает понимание того, что, какой
бы выбор мы ни делали, например вечер перед телевизором, мы используем время,
которое могли потратить как-то по-другому, скажем приготовить вкусную еду или
покататься с детьми на велосипеде.
9.
Представляйте себе, что ваши решения могут быть проверены.
Исследования
показывают: люди, которые считают, что им понадобится обосновывать свои ответы,
менее тенденциозны в сравнении с теми, кто на это не рассчитывает. Когда мы
ожидаем, что нам понадобится отвечать за наши решения, мы склонны вкладывать
больше сознательных усилий и, соответственно, принимать более продуманные
решения после детального анализа.
По
этой причине (и поверьте, я это не придумал) офисные сотрудники чаще платят за
кофе из кофейного автомата общего пользования, если он расположен под плакатом
с изображением пары глаз (которые каким-то образом заставляют людей чувствовать
подконтрольность), чем если он стоит под постером с изображением цветов.
10.
Дистанцируйтесь от себя.
Буддисты
говорят, что все кажется более важным в настоящий момент, и по сути они правы.
Если прямо на вас несется неуправляемая машина, надо бросить все и
сосредоточить свою энергию на том, как от нее увернуться. Но если я хочу
закончить трапезу шоколадным тортом, я должен задать себе вопрос: не
переоцениваю ли я ближайшую цель (полакомиться) в сравнении с моей долгосрочной
целью (оставаться здоровым)? Сейчас вам кажется, что было бы здорово послать
сообщение с критикой вашего шефа, только вот на следующей неделе вы можете об
этом пожалеть. Устройство нашего мозга таково, что мы совершенно по-разному
думаем о близком и далеком: о близком – конкретно, а о далеком – абстрактно.
Не
всегда лучше продумывать что-то заранее; помните последний раз, когда вы
обещали сделать что-то через шесть месяцев, скажем посетить благотворительное
мероприятие или добровольно поработать для школы вашего ребенка? Ваше обещание,
вероятно, казалось вам ни к чему не обязывающим в тот момент, когда вы его
давали, но ближе к дате, когда его понадобилось выполнять, оно могло ощущаться
как бремя. При всякой возможности надо спрашивать себя, как решение отзовется
на ваших ощущениях в будущем. Надо понимать разницу между тем, как мы
воспринимаем здесь и сейчас, а как – будущее, и пытаться использовать и
уравновешивать обе модели мышления – ближайшую и отдаленную. Так мы не станем
жертвой выбора, который основывается на том, что происходит в нашей голове в
данный момент. (Отсюда вывод: немного подождите. Если завтра вам по-прежнему
будет этого хотеться, возможно, это важно; если нужда пройдет, наверное, это
было не слишком важно.) Эмпирические исследования показывают, что
иррациональные порывы по прошествии какого-то времени обычно проходят, и
сложные решения получаются лучше, если дать им созреть.
11.
Остерегайтесь яркости, субъективности и анекдотичности.
Это
еще одно следствие принципа «дистанцирования от себя». И это тоже легче
сказать, чем сделать. В предыдущих главах мы видели, насколько большее
искушение исходит от пирожного, которое мы видим, в сравнении с пирожным, о
котором просто читаем. Еще более яркую иллюстрацию предлагает исследование
отношения студентов к брендам презервативов, проведенное Тимоти Уилсоном,
продемонстрировавшее классический результат в духе «делай, как я говорю, а не
как я делаю». Испытуемым в эксперименте дали два источника информации:
результаты достаточно надежного исследования, опубликованного в «Отчетах для
потребителей», где благосклонно оценивались презервативы бренда А, и один
анекдотический отзыв (предположительно написанный одним из студентов),
рекомендующий бренд Б на том основании, что кондом бренда А порвался во время
сношения, что повлекло опасения по поводу возможной беременности. Фактически
все студенты в принципе согласились, что потребительские отчеты надежнее, и они
не посоветовали бы своим друзьям делать выбор на основе анекдотического
свидетельства. Но, когда им самим предложили выбрать, почти треть (31%)
все-таки поддалась живости анекдотического описания и предпочла бренд Б. Наши
четвероногие предки наверняка обратили бы внимание в первую очередь на что-то
яркое и броское; мы же обладаем такой роскошью, как время на раздумье, и почему
бы нам не пользоваться этой роскошью, уделяя первоочередное внимание неличным
наблюдениям, а научным данным, дабы компенсировать нашу слабость ко всему
яркому?
12.
Выделяйте главное.
Решения
даются нам психологически, а иногда и физически тяжело, и нельзя откладывать
каждое решение до момента получения полной информации и времени, достаточного
для изучения всех непредвиденных обстоятельств и альтернатив. Стратегии,
которые я привел в этом списке, очень удобны, но никогда не забывайте притчу о
буридановом осле, который умер от голода, пытаясь отдать предпочтение одному из
двух одинаково аппетитных и одинаково близких к нему стогов сена. Оставьте за
собой право наиболее тщательно продумывать лишь самые важные решения.
13.
Старайтесь быть рациональными.
Этот
последний совет на пару с самым бесполезным в мире советом на бирже (покупай
дешево, продавай дорого) звучит, пожалуй, невероятно тривиально. На самом деле
напоминать себе о том, что необходимо быть рациональным, совсем не так
бесполезно, как может показаться.
Вспомним,
например, «осознание собственной смертности», феномен, который я описывал
раньше в главе об убеждениях: люди, которых подводят к мысли о собственной
смерти, склонны относиться более жестко к представителям других групп. Но
достаточно было просто сказать им, чтобы они хорошенько обдумали свои ответы и
проявили «как можно больше рациональности и аналитичности» (вместо того, чтобы
отвечать чисто интуитивно), как эффект снижался. Другое недавнее исследование
демонстрирует аналогичные результаты.
Одна
из наиболее важных причин, по которой полезно напоминать себе о необходимости
быть рациональными, состоит в том, что, делая это, вы можете постепенно
научиться автоматически использовать одну из описанных мной техник (таких как
рассмотрение альтернатив или контроль ответственности за собственные решения).
Да, наверное, недостаточно просто напоминать себе о необходимости быть
рациональными, но в совокупности с остальными приемами это может помочь.
Каждая
из этих рекомендаций основана на убедительных эмпирических исследованиях
пределов человеческого мышления. Каждое из них обращено к той или иной слабой
стороне человеческого мозга, и каждое предлагает свой способ компенсации того
или иного брака в нашей эволюции.
Имея
должное понимание соотношения сил и слабостей человеческого ума, мы получаем
возможность помочь не только себе, но и обществу. Возьмем, например, нашу
устаревшую, построенную преимущественно на идеях педагогики XIX века систему
образования, с ее непомерным раздуванием значения запоминания в духе
промышленной революции и диккенсовского учителя мистера Грэдграйнда: «Итак, я
требую фактов. Учите этих мальчиков и девочек только фактам… Не насаждайте
ничего иного и все иное вырывайте с корнем». Но едва ли это такое образование,
каким оно должно быть, образование, способное научить наших детей позаботиться
о себе. Сомневаюсь, чтобы такие мощные дозы запоминания когда-либо служили
пользе дела, а уж в век Google требовать от детей заучивать столицы штатов
просто нелепо.
Дина
Кун, ведущий специалист по психологии образования и автор недавно вышедшей
книги «Образование ради мышления», описывает эпизод, который невероятно
напоминает мне мой собственный школьный опыт. Семиклассник в школе намного выше
среднего уровня спрашивает своего учителя по общественным наукам, слывущего
хорошим профессионалом: «Зачем нам зубрить названия всех тринадцати колоний?»
Учитель без колебаний отвечает: «Ну, мы собираемся выучить названия всех
пятидесяти штатов к июню, так что можем первые тринадцать выучить прямо
сейчас». Яркое свидетельство того, что телега запоминания идет впереди лошади
образования. Конечно, важно учить детей истории их собственной страны и –
особенно в свете растущей глобализации – мировой истории, но знание названий
всех штатов не способно пролить свет на историю и оставляет ученика без подлинного
понимания текущих событий. В результате получается, как это описано в одном
исследовании:
Многие ученики обнаруживают не более чем
поверхностное понимание теорий и отношений, лежащих в основе предметов, которые
они изучали, они не способны применить полученные знания для решения проблем
реальной жизни… В Соединенных Штатах можно провести в школе 12-13 лет, не
научившись думать.
В
информационный век дети не имеют трудностей с поиском информации, но у них есть
проблемы интерпретации. Наша склонность сначала верить, а потом задавать
вопросы, особенно опасна в эпоху Интернета, когда кто угодно может опубликовать
что угодно. И действительно, исследования показывают, что подростки часто
принимают на веру все, что читают в Интернете. Мои студенты лишь изредка
проверяют, кто автор веб-страницы, насколько авторитетен источник и
подтверждают ли другие источники найденную ими информацию. Исследователи из
колледжа Уэллсли пишут: «Студенты используют Интернет как преимущественный
источник информации, не задумываясь о точности информации». То же самое
справедливо и для большинства взрослых; еще в одном обзоре сообщается:
Средний потребитель уделяет гораздо больше
внимания внешним характеристикам сайта, таким как визуальные сигналы, чем его
содержанию. Например, около половины всех опрошенных в исследовании
потребителей (46,1%) оценивали надежность сайта отчасти на основании
привлекательности его дизайна, включая компоновку, типографику, размер шрифта и
цветовые решения.[70]
Именно
поэтому нам нужны школы, а не только Википедия и Интернет. Если бы мы от
природы были хорошими мыслителями, рассуждающими скептично и взвешенно, школы
были бы излишни.
Однако
на самом деле без специального обучения человек склонен к чрезмерной
доверчивости. Дети приходят в мир открытий и готовы слепо верить во все, что им
говорят. Требуются усилия, чтобы научить детей понимать, что существует
множество разных точек зрения и не все, что они слышат, истинно; еще больше
требуется усилий, чтобы научить их оценивать противоречивые сведения. Научное
мышление не заложено в человеке от природы и не возникает само по себе.
Таким
образом, мы не слишком много знаем о происходящем внутри нашего мозга и меньше
всего – о наших познавательных слабостях. До XVII века ученые даже не
утверждали определенно, что мозг – источник мышления. (Аристотель считал, что
функция мозга состоит в охлаждении крови, делая этот вывод на том основании,
что у людей, обладающих большим мозгом в сравнении с другими существами, менее
«горячая кровь».) Без обучения и мы представляем себе работу нашего мозга
ничуть не лучше, чем функционирование пищеварительной системы. Многих из нас
никогда не обучали тому, как делать записи, как оценивать свидетельства или
какие способности люди имеют от природы, а какие нет. Некоторые доходят до всего
этого сами, а некоторые так и остаются в неведении. Я не могу вспомнить ни
одного учебного курса по неформальной дискуссии, посвященного выявлению ошибок
или интерпретации статистики; до самого колледжа никто не объяснил мне разницы
между корреляцией и причинно-следственной зависимостью.
Но
это не говорит о том, что мы не способны освоить все это. Исследования обучения
навыкам так называемого критического мышления показывают обнадеживающие
результаты, когда наблюдаются устойчивые значимые достижения. Весьма впечатляют
недавние исследования, основанные на учебной программе, известной как
«Философия для детей»; как видно из названия, она направлена на то, чтобы
научить детей думать и рассуждать на философские темы. Это не Платон и
Аристотель, а истории, написанные для детей и целенаправленно приобщающие детей
к философским вопросам. Центральная книга программы «Открытия Гарри
Стоттлмейера» (никакого отношения к Гарри Поттеру не имеет) начинается с
раздела, в котором Гарри просят написать эссе на тему «Самая интересная вещь в
мире». Гарри, очень располагающий к себе персонаж, решает написать о мышлении:
«Для меня самое интересное – это мышление. Я знаю, что многое другое в жизни
тоже важно и удивительно, например электричество, свойства магнита и гравитация.
Но хотя мы и понимаем их, они не понимают нас. Поэтому мышление – это самое
особенное».
Обучение
детей 10-12 лет по 16-месячной версии этой программы всего по часу в неделю
показало существенное повышение уровня вербального интеллекта, невербального
интеллекта, уверенности в себе и независимости.
Эссе
Гарри Стоттлмейера и учебная программа «Философия для детей» – примеры того,
что психологи называют метасознанием, или знанием о знании. Если попросить
детей поразмышлять о том, как они осознают свои знания, мы можем существенно
расширить свое понимание мира. Даже единственный учебный курс – назовем его
«Человеческий мозг: руководство пользователя» – может оказать огромное влияние.
Никакое
подобное руководство не даст нам память, позволяющую извлекать квадратный
корень в голове, но многие наши когнитивные огрехи исправимы: мы можем
научиться более взвешенно рассматривать факты, реагировать на предвзятость
умозаключений, строить планы и принимать решения такими способами, которые
больше соответствуют нашим собственным долгосрочным целям. Если мы сделаем это
– если мы научимся понимать наши ограничения и обращаться к ним напрямую, – мы
можем перехитрить наш клудж.
Библиография
Ainslie, G. (2001). Breakdown of will. Cambridge,
UK: Cambridge University Press.
Aizcorbe, A.M., Kennickell, А.В.,
& Moore, К.B. (2003).
Recent changes in U.S. family finances: Evidence from the 1998 and 2001 Survey
of Consumer Finances. Federal Reserve Bulletin, 89(1), 1-32.
Alicke, M.D., Klotz, M.L., Breitenbecher, D.L., Yurak, T.J.,
& Vredenburg, D.S. (1995). Personal contact, individuation,
and the better-than-aver-age effect. Journal of Personality and Social
Psychology, 68(5), 804-25.
Allais, M. (1953). Le comportment de l'homme
rationnel devant le risque: Critique des postulats et axiomes de l'ecole
americaine. Econometrica, 21, 503-46.
Allman, J. (1999). Evolving brains. New
York: Scientific American Library. Distributed by W.H. Freeman.
Allman, J., Hakeem, A., & Watson, K. (2002).
Two phylogenetic specializations in the human brain. Neuroscientist, 8(4),
335-46.
Alloy, L.В., &
Abramson, L.Y. (1979). Judgment of contingency in depressed and
nondepressed students: Sadder but wiser? Journal of Experimental Psychology
, 108(4), 441-85.
Anderson, J.R. (1990). The
adaptive character of thought. Hillsdale, NJ: Erlbaum Associates.
Ariely, D., Loewenstein, G., & Prelec, D. (2006).
Tom Sawyer and the construction of value. Journal of Economic Behavior and
Organization, 60, 1-10.
Arkes, H.R. (1991). Costs and benefits of
judgment errors: Implications for debiasing. Psychological Bulletin, 120(3),
486-98.
Bargh, J.A., Chen, M., & Burrows, L. (1996).
Automaticity of social behavior: Direct effects of trait construct and
stereotype activation on action. Journal of Personality and Social
Psychology, 71(2), 230-44.
Bateson, M., Nettle, D., & Roberts, G. (2006).
Cues of being watched enhance cooperation in a real-world setting. Biology
Letters, 2(3), 412-14.
Bechara, A., Tranel, D., & Damasio, H. (2000).
Characterization of the decision making deficit of patients with ventromedial
prefrontal cortex lesions. Brain, 123(11), 2189-202.
Berscheid, Е., Graziano, W.,
Monson, Т.,
& Dermer, M. (1976). Outcome dependency: Attention,
attribution, and attraction. Journal of Personality and Social Psychology, 34(5),
978-89.
Blanton, H., & Gerrard, M. (1997).
Effect of sexual motivation on men's risk perception for sexually transmitted
disease: There must be 50 ways to justify a lover. Health Psychology, 16(4),
374-79.
Brickman, P., & Campbell, D.T. (1971).
Hedonic relativism and planning the good society. In M. Appley (Ed.), Adaptation-level
theory (pp. 287305). New York: Academic Press.
Brickman, P., Coates, D., & Janoff-Bulman, R. (1978).
Lottery winners and accident victims: Is happiness relative? Journal of
Personality and Social Psychology, 36(8), 917-27.
Brown, J.C., & Loglan Institute. (1975). Loglan
I: A logical language (3rd ed.). Gainsville, FL: Loglan Institute.
Brown, J.D. (1986). Evaluations of self and
others: Self-enhancement biases in social judgments. Social Cognition, 4(4),
353-76.
Brown, M., & Seaton, S. (1984). Christmas
truce. New York: Hippocrene Books.
Butler, D., Ray, A., & Gregory, L. (1995). America's
dumbest criminals. Nashville, TN: Rutledge Hill Press.
Chater, N.. Tenenbaum, J.В.,
& Yuille, A. (2006). Probabilistic models of cognition:
Conceptual foundations. Trends in Cognitive Science, 10(7), 287-91.
Cheever, J. (1990, August 13). Journals. The
New Yorker. Chimpanzee Sequencing and Analysis Consortium. (2005). Initial
sequence of the chimpanzee genome and comparison with the human genome. Nature,
437(7055), 69-87.
Chomsky, N.A. (1995). The
minimalist program. Cambridge, MA: MIT Press.
Chomsky, N.A. (2000). New
horizons in the study of language and mind. Cambridge, UK: Cambridge
University Press.
Cialdini, R.B. (1993). Influence:
The psychology of persuasion. New York: Morrow.
Clark, A. (1987). The kludge in the machine. Mind
and Language , 2, 277-300.
Cushing, S. (1994). Fatal words:
Communication clashes and aircraft crashes. Chicago: University of Chicago
Press.
Daly, M., & Wilson, M. (1988). Homicide.
New York: de Gruyter.
Darley, J.M., & Gross, P.H. (1983).
A hypothesis-confirming bias in labeling effects. Journal of Personality and
Social Psychology , 44(1), 20-33.
Dawkins, R. (1976). The selfish gene. New
York: Oxford University Press.
Dawkins, R. (1982). The extended phenotype:
The gene as the unit of selection. Oxford, UK, and San Francisco, CA: W.H.
Freeman.
Dawkins, R. (1996). Climbing Mount
Improbable. New York: Norton.
Debiec, J., Doyere, V., Nader, K., & Ledoux, J.E. (2006).
Directly reactivated, but not indirectly reactivated, memories undergo
reconsolidation in the amygdala. Proceedings of the National Academy of
Science USA , 103(9), 3428-33.
Demonet, J.F., Thierry, G., & Cardebat, D. (2005).
Renewal of the neurophysiology of language: Functional neuroimaging. Physiological
Reviews, 85(1), 49-95.
Dennett, D.C. (1995). Darwins
dangerous idea: Evolution and the meanings of life. New York: Simon
& Schuster.
Dijksterhuis, A., & Nordgren, L.F. (2006).
A theory of unconscious thought. Perspectives on Psychological Science, 1(2),
95-109.
Dijksterhuis, A., & van Knippenberg, A. (1998).
The relation between perception and behavior, or how to win a game of trivial
pursuit. Journal of Personality and Social Psychology , 74(A), 865-77.
Dion, К.K. (1972).
Physical attractiveness and evaluation of children's transgressions. Journal
of Personality and Social Psychology, 24(2), 207-13.
Ditto, P.H., Pizarro, D.A., Epstein, E.В.,
Jacobson, J.A., & MacDonald, T.К. (2006).
Visceral influences on risk-taking behavior. Journal of Behavioral Decision
Making , 19(2), 99-113.
Dunning, D., Meyerowitz, J.A., & Holzberg, A.D. (1989).
Ambiguity and self-evaluation: The role of idiosyncratic trait definitions in
self-serving assessments of ability. Journal of Personality and Social
Psychology , 57(6), 1082-90.
Easterlin, R.A. (1995). Will
raising the incomes of all increase the happiness of all? Journal of
Economic Behavior and Organization, 27(1), 35-47.
Epley, N., & Gilovich, T. (2006).
The anchoring-and-adjustment heuris-tic: Why the adjustments are insufficient. Psychological
Science, 17(4), 311-18.
Epley, N., Keysar, В., Van Boven, L.,
& Gilovich, T. (2004). Perspective taking as egocentric
anchoring and adjustment. Journal of Personality and Social Psychology, 87(3),
327-39.
Epstein, S. (1994). Integration of the cognitive
and the psychodynamic unconscious. American Psychologist, 49(8),
709-24.
Epstein, S., Lipson, A., Holstein, C., & Huh, E. (1992).
Irrational reactions to negative outcomes: Evidence for two conceptual systems.
Journal of Personality and Social Psychology, 62(2), 328-39.
Etcoff, N.L. (1999). Survival of the
prettiest: The science of beauty. New York: Doubleday.
Fazio, R.H. (1986). How do attitudes guide
behavior? In R.M. Sorrentino & E.T. Higgins (Eds.), Handbook
of motivation and cognition: Foundations of social behavior (pp. 1,
204-33). New York: Guilford Press.
Fedde, M.R., Orr, J.A., Shams, H, & Scheid, P. (1989).
Cardiopulmonary function in exercising bar-headed geese during normoxia and
hypoxia. Respiratory Physiology and Neurobiology, 77(2), 239-52.
Ferreira, R, Bailey, K.G.D., & Ferraro, V. (2002).
Good-enough representations in language comprehension. Current Directions in
Psychological Science, 11(1), 11-15.
Ferreira, M.В., Garcia-Marques,
L., Sherman, S.J., & Sherman, J.W. (2006). Automatic
and controlled components of judgment and decision making. Journal of
Personality and Social Psychology, 91 (5), 797-813.
Festinger, L., & Carlsmith, J.M. (1959).
Cognitive consequences of forced compliance. Journal of Abnormal Psychology,
58(2), 203-10.
Finlay, B.L., & Darlington, R.B. (1995).
Linked regularities in the development and evolution of mammalian brains. Science,
268(5217), 157884.
Fishbach, A., Shah, J. Y, & Kruglanski, A.W. (2004).
Emotional transfer in goal systems. Journal of Experimental Social
Psychology, 40, 723-38.
Fitch, W.T. (2005). The evolution of music in
comparative perspective. Annals of the New York Academy of Sciences,
1060(1), 29-49.
Fogg, В.I., Soohoo, C,
Danielson, D., Marable, L., Stanford, J., & Tauber, E. (2002).
How do people evaluate a web site's credibility? Results from a large study.
From:
http://www.consumerwebwatch.org/news/report3_credibilityresearch/stanfordPTL.pdf.
Forer, B.R. (1949). The fallacy of personal
validation: A classroom demonstration of gullibility. Journal of Abnormal
and Social Psychology, 44, 118-23.
Forster, J., & Strack, F. (1998).
Motor actions in retrieval of valenced information: II. Boundary conditions for
motor congruence effects. Perceptual and Motor Skills, 86(3, Pt. 2),
1423-6.
Frank, R.H. (2001). Luxury fever: Why money
fails to satisfy in an era of excess. New York: Simon & Schuster.
Gailliot, M.Т., Baumeister, R.R,
DeWall, C.N., Maner, J.K., Plant, E.A., Tice, D.M., Brewer, L.E., &
Schmeichel, B.J. (2007). Self-control relies on glucose as a limited
energy source: Willpower is more than a metaphor. Journal of Personality and
Social Psychology , 92(2), 325-336.
Galinsky, A.D., & Moskowitz, G.B. (2000).
Counterfactuals as behavioral primes: Priming the simulation heuristic and
consideration of alternatives. Journal of Experimental Social Psychology, 36(4),
384-409.
Galvan, A., Hare, T.A., Parra, С.E., Penn,
J., Voss, H., Glover, G., & Casey, B.J. (2006). Earlier
development of the accumbens relative to orbito-frontal cortex might underlie
risk-taking behavior in adolescents. Journal of Neuroscience, 26(25),
6885-92.
Gebhart, A.L., Petersen, S.E., & Thach, W.T. (2002).
Role of the posterolateral cerebellum in language. Annals of the New York
Academy of Science, 978, 318-33.
Gelman, S.A., & Bloom, P. (2007).
Developmental changes in the understanding of generics. Cognition, 105(1),
166-83.
Gilbert, D.T., Krull, D.S., & Malone, P.S. (1990). Journal
of Personality and Social Psychology, 59(4), 601-13.
Gilbert, D.T., Tafarodi, R.W, & Malone, P.S. (1993).
You can't not believe everything you read. Journal of Personality and Social
Psychology, 65(2), 221-33.
Godden, D.R., & Baddeley, A.D. (1975).
Context-dependent memory in two natural environments: On land and underwater. British
Journal of Psychology, 66(3), 325-31.
Goel, V. (2003). Evidence for dual neural
pathways for syllogistic reasoning. Psychologia, 32, 301-9.
Goel, V., & Dolan, R.J. (2003).
Explaining modulation of reasoning by belief. Cognition, 87(1), B11-22.
Goldner, E.M., Hsu, L., Waraich, P., & Somers,
J.M.
(2002). Prevalence and incidence studies of schizophrenic disorders: A
systematic review of the literature. Canadian Journal of Psychiatry, 47(9),
833-43.
Goldstein, L., Pouplier, M., Chen, L., Saltzman, E.,
& Byrd, D. (2007). Dynamic action units slip in speech
production errors. Cognition, 103(3), 396-412.
Gollwitzer, P.M., & Sheeran, P. (2006).
Implementation intentions and goal achievement: A meta-analysis of effects and
processes. Advances in Experimental Social Psychology , 38, 69-119.
Graham, L., & Metaxas, P.T. (2003).
"Of course it's true: I saw it on the Internet!" Critical thinking in
the Internet era. Communications of the ACM, 46(5), 70-75.
Greene, J.D., Nystrom, L.E., Engell, A.D., Darley, J.M.,
& Cohen, J.D. (2004). The neural bases of cognitive
conflict and control in moral judgment. Neuron, 44(2), 389-400.
Greene, J.D., Sommerville, R.В.,
Nystrom, L.E., Darley, J.M., & Cohen, J.D. (2001). An fMRI
investigation of emotional engagement in moral judgment. Science, 293(5537),
2105-2108.
Greenwald, A.G., McGhee, D.E., & Schwartz, J.L.K. (1998).
Measuring individual differences in implicit cognition: The implicit
association test. Journal of Personality and Social Psychology, 74(6),
1464-80.
Gregory, T.R. (2005). The
evolution of the genome. Burlington, MA: Elsevier Academic.
Groopman, J.E. (2007). How
doctors think. Boston: Houghton Mifflin.
Haidt, J. (2001). The emotional dog and its
rational tail: Asocial intuitionist approach to moral judgment. Psychological
Review, 108(4), 814-34.
Haselton, M.G., & Buss, D.M. (2000).
Error management theory: A new perspective on biases in cross-sex mind reading.
Journal of Personality and Social Psychology, 78(1), 81-91.
Hauser, M.D., Chomsky, N., & Fitch, W.T. (2002).
The faculty of language: What is it, who has it, and how did it evolve? Science,
298(5598), 1569-1579.
Herrnstein, R.J., & Prelec, D. (1992).
In G. Loewenstein & J. Elster (Eds.), A theory of addiction:
Choice over time (pp. 331-360). New York: Russell Sage.
Higgins, E.T. (2000). Making a
good decision: Value from fit. American Psychologist, 55(11),
1217-1230.
Higgins, E.T., Rholes, W.S., & Jones, C.R. (1977).
Category accessibility and impression formation. Journal of Experimental
Social Psychology, 13(2), 141-154.
Hoch, S.J. (1985). Counterfactual reasoning and
accuracy in predicting personal events. Journal of Experimental Psychology:
Learning, Memory, and Cognition , 11(4), 719-731.
Hornstein, H.A., Lakind, E., Frankel, G., &
Manne, S.
(1975). Effects of knowledge about remote social events on prosocial behavior,
social conception, and mood. Journal of Personality and Social Psychology, 32(6),
1038-1046.
Howard, S. (2004, November 14). Dreaming of sex
costs the nation £7.8bn a year. Sunday Times (London).
Jacob, F. (1977). Evolution and tinkering. Science,
196, 1161-66.
Jacoby, L.L., Kelley, C, Brown, J., & Jasechko,
J.
(1989). Becoming famous overnight: Limits on the ability to avoid unconscious
influences of the past. Journal of Personality and Social Psychology, 56(3),
326-38.
Jones-Lee, M., & Loomes, G. (2001).
Private values and public policy. In E.U. Weber, J. Baron, & G.
Loomes (Eds.), Conflict and tradeoffs in decision making (pp.
205-30). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Jost, J.T., & Hunyady, O. (2003).
The psychology of system justification and the palliative function of ideology.
European Review of Social Psychology, 13(1), 111-53.
Kagel, J.H., Green, L., 8; Caraco, T. (1986).
When foragers discount the future: Constraint or adaptation? Animal
Behaviour, 34(1), 271-83.
Kahneman, D., Krueger, А.В.,
Schkade, D.A., Schwarz, N., & Stone, A.A. (2004). A survey
method for characterizing daily life experience: The day reconstruction method.
Science, 306(5702), 1776-80.
Kahneman, D., Krueger, А.В.,
Schkade, D.A., Schwarz, N., & Stone, A.A. (2006). Would you
be happier if you were richer? A focusing illusion. Science, 312(5782),
1908-10.
Kahneman, D., & Ritov, I. (1994).
Determinants of stated willingness to pay for public goods: A study in the
headline method. Journal of Risk and Uncertainty, 9(1), 5-38.
Kassarjian, H.H., & Cohen, J.B. (1965).
Cognitive dissonance and consumer behavior. California Management Review, 8,
55-64.
Kelly, A.V. (2001, January 19). What did Hitler
do in the war, Miss? Times Educational Supplement, p. 12.
Kessler, R.C., Berglund, P., Demler, O., Jin, R.,
Merikangas, K.R., & Walters, E.E. (2005). Lifetime
prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National
Comorbidity Survey Replication. Chicago: American Medical Association.
Keysar, В., & Henly,
A.S.
(2002). Speakers' overestimation of their effectiveness. Psychological
Science, 13(3), 207-12.
King, M.C, & Wilson, A.C. (1975).
Evolution at two levels in humans and chimpanzees. Science, 188(4184),
107-16.
Kirscht, J.P., Haefner, D.P., Kegeles, S.S., &
Rosenstock, I.M. (1966). A national study of health beliefs. Journal
of Health and Human Behavior, 7(4), 248-54.
Klauer, K.C, Musch, J., & Naumer, B. (2000).
On belief bias in syllogistic reasoning. Psychological Review, 10(4),
852-84.
Koehler, D.J. (1994). Hypothesis
generation and confidence injudgment. Journal ofExperimental Psychology:
Learning, Memory, and Cognition, 20(2), 461-469.
Koriat, A., Lichtenstein, S., & Fischhoff, В. (1980).
Reasons for overconfidence. Journal of Experimental Psychology: Human
Learning and Memory , 6, 107-118.
Kray, L.J., Galinsky, A.D., & Wong, E.M. (2006).
Thinking within the box: The relational processing style elicited by
counterfactual mind-sets. Journal of Personality and Social Psychology ,
91, 33-48.
Kuhn, D. (2005). Education for thinking. Cambridge,
MA: Harvard University Press.
Kuhn, D., & Franklin, S. (2006).
The second decade: What develops (and how). In W. Damon & R. Lerner
(Series Eds.), D. Kuhn & R. Siegler (Vol. Eds.), Handbook of
child psychology (pp. 953-94). New York: Wiley.
Kunda, Z. (1990). The case for motivated
reasoning. Psychological Bulletin , 108(3), 480-98.
Larrick, R.P. (2004). Debiasing.
In D. Koehler & N. Harvey (Eds.), The Blackwell Handbook of
Judgment and Decision Making (pp. 316-37). Maiden, MA: Blackwell.
Layard, P.R.G. (2005). Happiness:
Lessons from a new science. New York: Penguin.
Leary, M.R., & Forsyth, D.R. (1987).
Attributions of responsibility for collective endeavors. In C. Hendrick
(Ed.), Group processes: Review of personality and social psychology, Vol.
8 (pp. 167-88). Thousand Oaks, CA: Sage.
Ledoux, J.E. (1996). The emotional brain: The
mysterious underpinnings of emotional life. New York: Simon &
Schuster.
Lerner, M.J. (1980). The belief in a just
world: A fundamental delusion. New York: Plenum Press.
Leslie, S.-J. (2007). Generics
and the structure of the mind. Philosophical Perspectives, 21(1), 378-403.
Liberman, N., Sagristano, M.D., & Trope, Y. (2002).
The effect of temporal distance on level of mental construal. Journal of
Experimental Social Psychology, 38(6), 523-34.
Lieberman, P. (1984). The
biology and evolution of language. Cambridge, MA: Harvard University
Press.
Linden, D.J. (2007). The accidental mind. Cambridge,
MA: Belknap Press of Harvard University Press.
Linley, P.A., & Joseph, S. (2004).
Positive change following trauma and adversity: A review. Journal of
Traumatic Stress, 17(1), 11-21.
Lipman, M. (1970/1982). Harry Stottlemeier's
discovery. Montclair, NJ: Institute for the Advancement of Philosophy for
Children (IAPC).
Loftus, E.F. (2003). Make-believe memories. American
Psychologist, 58(11), 867-73.
Lord, C.G., Ross, L., & Lepper, M.R. (1979).
Biased assimilation and attitude polarization: The effects of prior theories on
subsequently considered evidence. Journal of Personality and Social
Psychology, 37(11), 2098-2109.
Luria, A.K. (1971). Towards the problem of the
historical nature of psychological processes. International Journal of
Psychology, 6(4), 259-72.
Lynch Jr., J.G., & Zauberman, G. (2006).
When do you want it? Time, decisions, and public policy. Journal of Public
Policy and Marketing, 25(1), 67-78.
Lyubomirsky, S., Caldwell, N.D., &Nolen-Hoeksema,
S.
(1998). Effects of ruminative and distracting responses to depressed mood on
retrieval of autobiographical memories. Journal of Personality and Social Psychology,
75(1). 166-77.
Macrae, C.N., Bodenhausen, G.V., Milne, А.В.,
& Jetten, J. (1994). Out of mind but back in sight:
Stereotypes on the rebound. Journal of Personality and Social Psychology, 67(5),
808-17.
Marcus, G.F. (1989). The psychology of belief
revision. Bachelor's thesis, Hampshire College, Amherst, MA.
Marcus, G.F. (2004). The birth of the mind:
How a tiny number of genes creates the complexities of human thought. New
York: Basic Books.
Marcus, G.F., & Wagers, M. (under
review). Tree structure and the structure of sentences: A reappraisal. New York
University.
Marks, I., & Nesse, R. (1997).
Fear and fitness: An evolutionary analysis of anxiety disorders. In S.
Baron-Cohen (Ed.), The maladapted mind: Classic readings in evolutionary
psychopathology (pp. 57-72). Hove, UK: Psychology Press.
Markus, G.B. (1986). Stability and change in
political attitudes: Observed, recalled, and "explained." Political
Behavior, 8(1), 21-44.
McClure, S.M., Botvinick, M.M., Yeung, N., Greene, J.D.,
& Cohen, J.D. (in press). Conflict monitoring in
cognition-emotion competition. In J.J. Gross (Ed.), Handbook of
emotion regulation. New York: Guilford.
Mealey, L. (1995). The sociobiology of
sociopathy: An integrated evolutionary model. Behavioral and Brain Sciences,
18(3), 523-41.
Messick, D.M., Bloom, S., Boldizar, J.P., &
Samuelson, C.D. (1985). Why we are fairer than others. Journal of
Experimental Social Psychology, 21(5), 480-500.
Meston, С.M., & Buss,
D.M.
(2007). Why humans have sex. Archives of Sexual Behavior, 36(4),
477-507.
Metcalfe, J., & Shimamura, A.P. (1994). Metacognition:
Knowing about knowing. Cambridge, MA: MIT Press.
Metzger, M.J., Flanagin, A.J., & Zwarun, L. (2003).
College student Web use, perceptions of information credibility, and
verification behavior. Computers and Education, 41(3), 271-90.
Miller, G., & Chomsky, N.A. (1963).
Finitary models of language users. In R.D. Luce, R.R. Bush, & E.
Galanter (Eds.), Handbook of mathematical psychology (Vol. II).
New York: Wiley.
Miller, G.F. (2000). Evolution of human music
through sexual selection. In N.L. Wallin, B. Merker, & S. Brown
(Eds.), The origins of music (pp. 329-60). Cambridge, MA: MIT Press.
Minino, A.M., Arias, E., Kochanek, K.D., Murphy, S.L.,
& Smith, B.L. (2002). Deaths: Final data for 2000. National
Vital Statistics Report, 50(15), 1-119.
Mischel, W., Shoda, Y., & Rodriguez, M.I. (1989).
Delay of gratification in children. Science, 244(4907), 933-38.
Montague, R. (2006). Why choose this book? How
we make decisions. New York: Dutton.
Montalbetti, M.M. (1984). After
binding: On the interpretation of pronouns. Doctoral dissertation, MIT,
Cambridge, MA.
Moseley, D., Baumfield, V., Higgins, S., Lin, M., Miller,
J., Newton, D., Robson, S., Elliot, J., & Gregson, M. (2004).
Thinking skill frameworks for post-16 learners: An evaluation. Newcastle upon
Tyne, UK: Research Centre, School of Education.
Mussweiler, Т., Strack, E.,
& Pfeiffer, T. (2000). Overcoming the inevitable anchoring
effect: Considering the opposite compensates for selective accessibility. Personality
and Social Psychology Bulletin, 26(9), 1142.
Nesse, R. (1997). An evolutionary perspective
on panic disorder and agoraphobia. In S. Baron-Cohen (Ed.), The
maladapted mind: Classic readings in evolutionary psychopathology (pp.
72-84). Hove, UK: Psychology Press.
Nesse, R.M., & Williams, G.C. (1994). Why
we get sick: The new science of Darwinian medicine (1st ed.). New York:
Times Books.
Nickerson, R.S. (1988). On
improving thinking through instruction. Review of Research in Education, 15,
3-57.
Nielsen. (2006). Nielsen Media Research
reports television's popularity is still growing. From:
http://www.nielsenmedia.com/nc/portal/site/Public/menuitem.55dc65b4a7d5adff3f65936147a062a0/?vgnextoid=4156527aacccd010VgnVCM100000ac0a260aRCRD.
Nisbett, R.E., Krantz, D.H., Jepson, C., & Kunda,
Z.
(1983). The use of statistical heuristics in everyday inductive reasoning. Psychological
Review , 90, 339-63.
Noice, H., & Noice, T. (2006).
What studies of actors and acting can tell us about memory and cognitive
functioning. Current Directions in Psychological Science, 15(1), 14-18.
Nuttin, J.M. (1987). Affective consequences of
mere ownership: The name letter effect in twelve European languages. European
Journal of Social Psychology, 17(4), 381-402.
Oakhill, J., Johnson-Laird, P.N., & Garnham, A. (1989).
Believability and syllogistic reasoning. Cognition, 31(2), 117-40.
Pacini, R., Muir, F., & Epstein, S. (1998).
Depressive realism from the perspective of cognitive-experiential self-theory. Journal
of Personality and Social Psychology, 74(4), 1056-68.
Pandelaere, M., & Dewitte, S. (2006).
Is this a question? Not for long: The statement bias. Journal of
Experimental Social Psychology, 42(4), 525-531.
Parker, A. (2006). Evolution as a constraint on
theories of syntax: The case against minimalism. Doctoral dissertation,
University of Edinburgh, Edinburgh, UK.
Perkins, D.N. (1985). Postprimary
education has little impact on informal reasoning. Journal of Educational
Psychology, 77(5), 562-71.
Pew Research Center. (2007). Republicans
lag in engagement and enthusiasm for candidates. From:
http://people-press.org/reports/pdf/307.pdf.
Pinker, S., & Jackendoff, R. (2005).
The faculty of language: What's special about it? Cognition, 95(2),
201-36.
Plomin, R. (1997). Behavioral genetics (3rd
ed.). New York: W.H. Freeman.
Plomin, R., DeFries, J.C, McClearn, G.E., & McGuffin,
P.
(2001). Behavior genetics. New York: Worth.
Polimeni, J., & Reiss, J.P. (2002).
How shamanism and group selection may reveal the origins of schizophrenia. Medical
Hypotheses, 58(3), 244-48.
Posner, M.I., & Keele, S.W. (1968).
On the genesis of abstract ideas. Journal of Experimental Psychology, 77(3),
353-63.
Prasada, S. (2000). Acquiring generic knowledge.
Trends in Cognitive Sciences, 4, 66-72.
Premack, D. (2004). Psychology: Is language the
key to human intelligence? Science, 303(5656), 318-320.
Price, J., Sloman, L., Russell Gardner, J., Gilbert, P.,
& Rohde, P. (1997). The social competition hypothesis
of depression. In S. Baron-Cohen (Ed.), The maladapted mind: Classic
readings in evolutionary psychopathology (pp. 241-54). Hove, UK:
Psychology Press.
Pullum, G.K. (1991). The great Eskimo
vocabulary hoax and other irreverent essays on the study of language. Chicago:
University of Chicago Press.
Quattrone, G.A., & Tversky, A. (1988).
Contrasting rational and psychological analyses of political choice. American
Political Science Review , 82, 719-36.
Rachlin, H. (2000). The science of
self-control. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Read, D., & van Leeuwen, B. (1998).
Predicting hunger: The effects of appetite and delay on choice. Organizational
Behavior and Human Decision Processes, 76(2), 189-205.
Reder, L.M., & Kusbit, G.W. (1991).
Locus of the Moses illusion: Imperfect encoding, retrieval, or match. Journal
of Memory and Language, 30, 385-406.
Robinson, T.N., Borzekowski, D.L.G., Matheson, D.M.,
& Kraemer, H.C. (2007). Effects of fast-food branding on
young children's taste preferences. Archives of Pediatrics and Adolescent
Medicine, 161(8), 792.
Rosa-Molinar, E., Krumlauf, R.K., & Pritz, M.B. (2005).
Hindbrain development and evolution: Past, present, and future. Brain,
Behavior, and Evolution, 66(4), 219-21.
Ross, M., & Sicoly, F. (1979).
Egocentric biases in availability and attribution. Journal of Personality
and Social Psychology, 37(3).
Russell, B. (1918/1985). The philosophy of
logical atomism. Lasalle, IL: Open Court.
Russo, J.E., & Schoemaker, P.J.H. (1989). Decision
traps: Ten barriers to brilliant decision-making and how to overcome them (1st
ed.). New York: Doubleday/Currency.
Schacter, D.L. (2001). The
seven sins of memory: How the mind forgets and remembers. Boston: Houghton
Mifflin.
Schacter, D.L., & Addis, D.R. (2007).
Constructive memory: The ghosts of past and future. Nature, 445(7123),
27.
Schelling, T.C. (1984). Choice
and consequence. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Schooler, J.W., Reichle, E.D., & Halpern, D.V. (2004).
Zoning out while reading: Evidence for dissociations between experience and
metaconsciousness. In Thinking and seeing: Visual metacognition in adults
and children (pp. 203-206). Cambridge, MA: MIT Press.
Schwartz, В., &
Schwartz, B. (2004). Paradox of choice: Why more is less. New
York: HarperCollins.
Schwarz, N., Strack, E., & Mai, H.P. (1991).
Assimilation and contrast effects in part-whole question sequences: A
conversational logic analysis. Public Opinion Quarterly, 55(1), 3-23.
Sherman, J.W., Macrae, C.N., & Bodenhausen, G.V. (2000).
Attention and stereotyping: Cognitive constraints on the construction of
meaningful social impressions. European Review of Social Psychology, 11, 145-175.
Shiv, В., &
Fedorikhin, A. (1999). Heart and mind in conflict: The interplay of
affect and cognition in consumer decision making. Journal of Consumer
Research, 26(3), 278.
Simon, L., Greenberg, J., Harmon-Jones, E., Solomon, S.,
Pyszczynski, Т., Arndt,
J., & Abend, T. (1997). Terror management and cognitive
experiential self-theory: Evidence that terror management occurs in the
experiential system. Personality and Social Psychology, 72(5), 1132-46.
Simons, D.J., & Levin, D.T. (1998).
Failure to detect changes to people during a real-world interaction. Psychonomic
Bulletin and Review, 5(4), 644-49.
Smith, D.M., Schwarz, N., Roberts, T.R, & Ubel, P.A. (2006).
Why are you calling me? How study introductions change response patterns. Quality
of Life Research, 15(4), 621-30.
Smolin, L. (2006). The trouble with physics:
The rise of string theory, the fall of a science, and what comes next. Boston:
Houghton Mifflin.
Solomon, S., Greenberg, J., & Pyszczynski, T. (2004).
The cultural animal: Twenty years of terror-management theory and research. Handbook
of Experimental Existential Psychology, 13-34.
Solon, T. (2003). Teaching critical thinking!
The more, the better. The Community College Experience, 9(2), 25-38.
Stanovich, K.E. (2003). The
fundamental computational biases of human cognition: Heuristics that
(sometimes) impair decision making and problem solving. In J.E. Davidson
& R.J. Sternberg (Eds.), The psychology of problem solving (pp.
291-342). New York: Cambridge University Press.
Steel, P. (2007). The nature of
procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential
self-regulatory failure. Psychological Bulletin , 133(1), 65-94.
Steele, С.M., &
Aronson, J. (1995). Stereotype threat and the intellectual test
performance of African Americans. Journal of Personality and Social
Psychology 69(5), 797-811.
Stich, S. (in press). Nicod lectures on
morality. Cambridge, MA: MIT Press. Videos available at:
http://semioweb.msh-paris.fr/AR/974/liste_conf.asp.
Strack, R., Martin, L.L., & Schwarz, N. (1988).
Priming and communication: Social determinants of information use in judgments
of life satisfaction. European Journal of Social Psychology, 28(5),
429-42.
Strack, R., Martin, L.L., & Stepper, S. (1988).
Inhibiting and facilitating conditions of the human smile: A nonobtrusive test
of the facial feedback hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology,
54(5), 768-77.
Svenson, O. (1981). Are we all less risky and
more skillful than our fellow drivers? Act a Psychologica, 47(2),
143-218.
Takahashi, T. (2005). The
evolutionary origins of vertebrate midbrain and MHB: Insights from mouse,
amphioxus and ascidian Dmbx homeobox genes. Brain Research Bulletin, 66(4-6),
510-17.
Talarico, J.M., & Rubin, D.C. (2003).
Confidence, not consistency, characterizes flash-bulb memories. Psychological
Science, 14(5), 455-61.
Tetlock, P.E. (1985). Accountability:
A social check on the fundamental attribution error. Social Psychology
Quarterly, 48(3), 227-36.
Thaler, R.H. (1999). Mental accounting matters. Journal
of Behavioral Decision Making , 12(3), 183-206.
Thompson, C. (2007). Halo 3: How Microsoft labs
invented a new science of play. Wired , 15,140-47.
Thomson, J.J. (1985). The trolley
problem. Yale Law Journal, 94(6), 1395-1415.
Todorov, A., Mandisodza, A.N, Goren, A., & Hall, С.C. (2005).
Inferences of competence from faces predict election outcomes. Science, 308(5728),
1623-6.
Tooby, J., & Cosmides, L. (1995).
Mapping the evolved functional organization of mind and brain. In M.S.
Gazzaniga (Ed.), The cognitive neurosciences (pp. 1185-97).
Cambridge, MA: MIT Press.
Topping, K.J., & Trickey, S. (2007).
Collaborative philosophical enquiry for school children: Cognitive effects at
1012 years. British Journal of Educational Psychology, 77(2), 271-88.
Trehub, S. (2003). Musical predispositions in
infancy: An update. In I. Peretz & R.J. Zattore (Eds.), The
cognitive neuroscience of music (pp. 3-20). New York: Oxford University
Press.
Trivers, R. (1972). Parental investment and
sexual selection. Oxford, UK: Oxford University Press.
Tuchman, B. (1984). The march of folly: From
Troy to Vietnam (1st ed.). New York: Knopf.
Tulving, E., & Craik, E.L.M. (2000). The
Oxford handbook of memory. New York: Oxford University Press.
Tversky, A., & Kahneman, D. (1974).
Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Science, 185(4157),
1124-31.
Tversky, A., & Kahneman, D. (1981).
The framing of decisions and the psychology of choice. Science, 211(4481),
453-8.
Tyre, P. (2004, June 7). Clean freaks. Newsweek.
U.S. Department of Labor Statistics. (2007, June 28). American time use
survey summary. From:
http://www.bls.gov/news.release/atus.nro.htm.
Wansink, В., Kent, R.J.,
& Hoch, S.J. (1998). An anchoring and adjustment model
of purchase quantity decisions. Journal of Marketing Research, 35(1),
71-81.
Wason, P.C. (1960). On the failure to eliminate
hypotheses in a conceptual task. Quarterly Journal of Experimental
Psychology , 12,129-40.
Watkins, P.C, Vache, K., Verney, S.P., Muller, S.,
& Mathews, A. (1996). Unconscious mood-congruent memory
bias in depression. Journal of Abnormal Psychology , 105(1), 34-41.
Wegner, D.M. (1994). Ironic processes of mental
control. Psychological Review , 101(1), 34-52.
Weiner, J. (1994). The beak of the finch: A
story of evolution in our time (1st Vintage Books ed.). New York: Vintage
Books.
Wesson, R.G. (1991). Beyond natural selection.
Cambridge, MA: MIT Press.
Williams, W.M., Blythe, T., White, N., Li, J., Gardner,
H., & Sternberg, R.J. (2002). Practical intelligence for school:
Developing metacognitive sources of achievement in adolescence. Developmental
Review , 22(2), 162-210.
Wilson, T.D., & Brekke, N. (1994).
Mental contamination and mental correction: Unwanted influences on judgments
and evaluations. Psychological Bulletin , 116(1), 117-42.
Winkielman, P., & C. Berridge, K. (2004).
Unconscious emotion. Current Directions in Psychological Science, 13(3),
120-3.
Zajonc, R.В. (1968).
Attitudinal effects of mere exposure. Journal of Personality and Social
Psychology, 9(2, Pt. 2), 1-27.
Zimmer, C. (2004). Soul made flesh: The
discovery of the brain – and how it changed the world. New York: Free
Press.
Гари Маркус
Несовершенный человек. Случайность эволюции
мозга и ее последствия.
УДК
611.81
ББК
28.70
©
Gary Marcus, 2008
©
Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2011
ISBN
978-5-91671-085-4 (рус.)
ISBN
978-0-618-87964-9 (англ.)
Руководитель
проекта И. Серёгина
Корректор
О. Галкин
Верстальщик
Е. Сенцова
Иллюстратор
О. Белорус
Дизайнер
обложки С. Прокофьева
Подписано
в печать 21.10.2010. Формат 84x108/32.
Бумага
офсетная № 1. Печать офсетная. Объем 8 печ. л.
Тираж
3000 экз. Заказ № 9323
Альпина
нон-фикшн
123060,
Москва ул. Расплетина, д. 19, офис 2
Тел.
(495) 980-5354
www.nonfiction.ru
Отпечатано
с готовых файлов заказчика в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати» 432980, г.
Ульяновск, ул. Гончарова, 14.